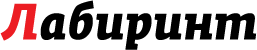СКАЙП-КОНСУЛЬТАНТ - ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
-
+7 499 920-95-25+7 499 920-95-25
Отечественная война 1812 г. и её отражение в русской литературе
Я выбрал эту тему потому, что я очень люблю литературу XIX века. В этой работе я взял несколько писателей того времени в произведениях которых отразилась война 1812 года.
Все мы задумывались над тем, как повлияла война 1812-го года на нашу культуру, культуру19 века, в первую очередь…19 век – век особый, век взлета русской литературы, музыки, живописи, науки и философии, эпоха, в которую сложился русский литературный язык, русское искусство стало классическим, т.е. образцовым для последующих поколений русских людей – многие из создателей «золотого века», жили и творили вдохновляясь образами и переживаниями. А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, В.А. Жуковский, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов и Л. Н. Толстой.
Одним из первых откликнулся на военные события «Военной песнью» поэт, офицер Ф. Глинка, который был адъютантом у Милорадовича и находился в походе до 1814 г.:
Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Начинает выходить журнал «Сын отечества», произведения о первой отечественной войне, опубликованные на его страницах, сплачивали, воодушевляли и укрепляли духовно русских людей в трагическое и грозное время. Осенью 1812 года в «Сыне отечества» печатаются басни И. А. Крылова «Обоз», «Волк на псарне», «Ворона и курица». Они связаны непосредственно с военными событиями, в них Крылов проявил себя как «политический писатель», поддерживающий и оправдывающий тактику Кутузова.
Так в басне «Обоз», напечатанной в ноябре 1812 г ., Крылов пытается защитить полководца от нападок молодых военных и императора Александра I, упрекавших Кутузова в непродуманности и нерешительности действий, приведших к сдаче Москвы. Задиристый и наглый молодой конь подсмеивается над опытным и неторопливым старым:
"Ай, конь хваленый, то-то диво!
Смотрите: лепится, как рак;
Вот чуть не зацепил за камень; косо! криво!
Смелее! Вот толчок опять.
А тут бы влево лишь принять.
Какой осел! Добро бы было в гору
Или в ночную пору,-
А то и под гору, и днем!
Смотреть, так выйдешь из терпенья!
Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья!
Но самоуверенность ретивого приводит к печальным последствиям:
Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь,
Тронулася лошадка с возом в путь;
Но, только под гору она перевалилась,
Воз начал напирать, телега раскатилась;
Коня толкает взад, коня кидает вбок;
Пустился конь со всех четырех ног
На славу;
По камням, рытвинам пошли толчки,
Скачки,
Левей, левей, и с возом – бух в канаву!
Прощай, хозяйские горшки!
Как в людях многие имеют слабость ту же:
Все кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
Другая басня «Волк на псарне», была написана в первых числах октября в связи с получением в Петербурге известий о попытке Наполеона вступить в мирные переговоры через Лористона, имевшего 23 сентября 1812 г . свидание с Кутузовым. Лористон передал Кутузову мирные предложения Наполеона, приведенные в донесении Кутузова Александру I. В них указывалось, что Наполеон «желает положить предел несогласиям между двумя великими народами и положить его навсегда». Кутузов решительно отклонил предложения Наполеона и 6 октября нанес поражение французским войскам при Тарутине. По свидетельству современника «Крылов, собственною рукою переписав басню, отдал ее жене Кутузова, которая отправила ее в своем письме. Кутузов прочитал басню после сраженья под Красным собравшимся вокруг него офицерам и при словах: «а я приятель сед», снял свою белую фуражку и потряс наклоненною головою».
Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор.
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку.
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
Огня! — кричат,— огня!»
Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит наконец
Ему расчесться за овец,—
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?...
Так, удивительным образом, И. А. Крылову удалось соединить в русской басне не только нравственную, но и историческую и политическую проблематику, раскрыть русский характер и подлинно народную суть войны.
И хотелось бы вкратце вспомнить несколько произведений:
Главнокомандующий Кутузов
(Отрывок из исторической хроники Н.Задонского «Денис Давыдов»).
«После двухдневной героической обороны Смоленска войсками Раевского, Неверовского и Дохтурова русская армия, оставив город, отступала по старой Смоленской дороге...
17 августа батальон Дениса Давыдова, особенно отличившийся в делах под Катанью и Дорогобужем, стоял близ Царева Займища. Сюда на рассвете прибыл новый главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов, только что пожалованный титулом светлейшего князя.
Войско встречало его с неописуемым восторгом. И Денис, в тот день увидевший прославленного русского полководца, вполне разделял общие чувства.
Кутузов в сюртуке без эполет, в белой фуражке, с шарфом через плечо и с нагайкой через другое ехал на гнедом иноходце. Массивная фигура Кутузова, крупные черты лица, пухлые щеки, мягкий голос и добродушная улыбка создавали благоприятное впечатление. Главнокомандующего сопровождала большая свита. Денис разглядел среди свитских господ и пасмурного Барклая, и долговязого Беннигсена, назначенного начальником главного штаба, и Ермолова, и Раевского, но особенно бросилось в глаза довольное лицо Багратиона, ехавшего на белой лошади несколько впереди других.
Запретив выстраивать войска, Кутузов стал осматривать их на марше. Подъехав к одному из пехотных полков, он неожиданно остановился. Солдаты засуетились, начали вытягиваться, чиститься, строиться. Кутузов слегка поморщился, махнул рукой.
— Не надо, ничего этого не надо,— сказал он.— Я приехал только посмотреть, здоровы ли мои дети? Солдату в походе не о щегольстве думать, ему надо отдыхать после трудов и готовиться к победе.
Заметив, что растянувшийся на дороге обоз какого-то генерала мешает проходить пехоте, Кутузов подозвал одного из своих адъютантов и приказал:
— Отведи, голубчик, эти экипажи в сторонку. Солдату каждый шаг дорог, скорей до места дойдет — больше отдохнет. О солдате более всего попечение иметь надлежит!
Когда же обоз освободил дорогу, а следовавший за ним полк егерей в стройных рядах и боевом порядке приблизился к главнокомандующему, он, сняв фуражку и приветливо помахав войскам, воскликнул:
— Как с такими молодцами отступать да отступать! Слова главнокомандующего стали передаваться из уст в уста...
— Приехал Кутузов бить французов! — эта крылатая солдатская фраза быстро облетела войска. И дымные поля биваков, как отмечают очевидцы, огласились песнями и музыкой, чего давно уже не бывало».
Военный Совет в Филях
(Отрывок из романа Л.Н.Толстого «Война и мир»).
«В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и со своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши руку на свою широкую, со смелыми чертами и блестящими глазами голову граф Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться...
Беннигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжало недолго.
— Священную древнюю столицу России! — вдруг заговорил он сердитым голосом, повторяя слова Беннигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов.— Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, этот вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла)».
Партизан Денис Давыдов
(Отрывок из романа Г.Серебрякова «Денис Давыдов»).
«Обосновав лагерь в густом березняке близ села Скугарева, Давыдов начал набеги на врага.
2 сентября рано утром он как снег на голову пал на шайку мародеров, орудовавшую в ближнем селе Токарево. Стремительным ударом было захвачено девяносто неприятельских солдат и офицеров, прикрывавших обоз с награбленными у жителей припасами. Едва завершили это дело и раздали поселянам изъятое у них силою добро, как скрытые заранее пикеты донесли, что к Токареву движется еще один вражеский отряд, причем по обыкновению своему следует совершенно беспечно, не выставив даже конных охранений.
— Ну, коли неприятель снова в гости пожалует, встретим! — сказал Давыдов.
По его знаку гусары и казаки вскочили в седла и затаились за крайними избами. Дав французам подойти чуть ли не вплотную, снова ударили разом. Ошарашенные мародеры, не успев оказать сопротивления, дружно побросали оружие. Добычею стали еще семьдесят пленных.
Тут же встал вопрос: а что с ними делать? Не таскать же за собою всю эту голодную, прожорливую ораву?
По имевшимся у Давыдова сведениям, в уездном Юхнове французов не было. Город держало в своих руках местное ополчение. Посему, поразмыслив, Денис решил направить транспорт с пленными туда, дабы сдать их юхновскому начальству под расписку.
После отправки пленных Денис раздал поселянам неприятельское вооружение: ружья, патроны, сабли, пики, тесаки. Заодно и наказал им смелее оказывать отпор мародерам, которых они уже называли по-своему — «миродерами»...
Хотя проведенное дело можно было вполне считать успешным, Давыдов понимал, что поражение вооруженных французских грабителей отнюдь не главная цель, ради которой он послан с отрядом в неприятельский тыл. Намного важнее было наносить удары по транспортам жизненного и военного обеспечения наполеоновской армии. Поэтому он и решил продолжать поиск вдоль Смоленской столбовой дороги в направлении к памятному ему Цареву-Займищу».
И хотелось бы поподробнее написать о Пушкине, который написал стихотворение «Перед гробницею святой», посвященное М. И. Кутузову, о котором поэт отзывался восторженно и уважительно: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло – спаситель России; его памятник – скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?.. Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю; один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты, ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!». « Перед гробницею святой», «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» – все эти стихотворения напоминают о народной войне, о славе русского оружия, и об участи любого завоевателя, рискнувшего напасть на Россию. Так гордо и бесстрашно звучит призыв поэта:
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
В 1835 г . Пушкин пишет стихотворение «Полководец», в котором раскрывается трагическое судьба и высокое предназначение выдающегося полководца – Барклая де Толли:
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
Тактика полководца, который уклонялся от решительных сражений, заманивая противника вглубь страны, не находила понимания и поддержки у царя и армии. Но Пушкин восхваляет мудрость и стойкость Барклая, которого обвиняли в трусости и даже измене: «Ты был неколебим пред общим заблужденьем».
Заревом пожарищ встретила Москва Наполеона, городу суждено было сгореть и возродиться из пепла в новом, правда «вражеском» архитектурном облике, в духе ампира и классицизма.
Как не вспомнить «Горе от ума» А. С. Грибоедова и знаменитую «лакейскую» реплику Скалозуба «пожар способствовал ей много к украшенью»? «Не поминайте нам, уж много ли кряхтят, с тех пор дома и тротуары и все –на новый лад» – отвечает Фамусов. О. Бове возглавил комиссию по восстановлению Москвы и возник ансамбль на манежной площади (университет и манеж). Была создана Театральная площадь с Большим театром, Александровский сад.
Непременно надо сказать и о том, что война 1812 г . оказала огромное воздействие на развитие общественной мысли 19 века, события 1812 г . вызвали рост национального самосознания и патриотический подъем в стране. Во время борьбы с Наполеоном манифесты славянофила Шишкова стали средством обращения к русскому народу, к его национальному чувству. В канун войны он говорил: «Вера, воспитание и язык суть самые сильнейшие средства к возбуждению и вкоренению в нас любви к отечеству. Найденные Шишковым три элемента – вера, воспитание и язык – подготовили ступень уваровской триады «православие, самодержавие, народность». Деятельность славянофилов того периода оживила благотворный интерес к русскому народу и его старине. Результат этой деятельности – собрание русских песен И. Киреевского, словарь В. Даля, труды Самарина и Беляева, которые заложили основу научного изучения русского крестьянства, духовных основ его быта и многое, многое другое. «Двенадцатый, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил… возбудил народное сознание и народную гордость… – писал Белинский.
Пожалуй, главный урок этой войны – в эволюции сознания русского общества, отразившейся в литературе – в баснях Крылова, в лирике Пушкина, Лермонтова, Жуковского, а главным образом у Толстого: от атмосферы полного равнодушия дворянства, не понимающего масштабов бедствия, волнующихся лишь о том, что крестьяне наберутся вольного духа – до сострадания Наташи, готовой отдать подводы, приготовленные для перевозки имущества – для раненых.
Гвардейское столичное офицерство, некоторые представители которого не знали толком русского языка, будущие декабристы дневали и ночевали вместе со своими солдатами, от взаимопонимания между ними зависела не только победа, но и жизнь. «Неразумный невежественный народ», и вдруг – одевающий перед боем чистые рубашки, отказывающийся пить водку – «не такой день». «Чудесный, бесподобный народ!» – говорит, узнав об этом, Кутузов в «Войне и мире». Они сохраняют бодрость духа, сосредоточенность – и на батарее Раевского, в дружеской и радостной атмосфере, где царит «одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление», Пьер впервые понимает
«Ту скрытую теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти». Благодаря этой общей войне «наш барин» (так ласково и снисходительно прозвали Пьера Безухова солдаты) впервые ощутил «то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира».
«Гроза 12-го года» объединила народ, преодолев сословное разобщение, пробудила в людях лучшие душевные качества. И этот духовный опыт оказался вновь востребован в 20-ом веке.
Стихотворение «Бородино» было написано в канун 25-летия Отечественной войны. Именно так, глазами простого человека, народа захотел Лермонтов взглянуть на те события. Неслучайно, что именно это стихотворение зазвучало в годы Великой Отечественной войны. Его читали по радио и цитировали в публицистике. Фронтовая газета «Уничтожим врага!» вышла зимой 1941 г . с призывом «Ребята, не Москва ль за нами!» Во всех произведениях которые были написаны в честь войны 1812 года, проявлялись главные черты русского народа – его мужество, стойкость, бодрость духа, его умение сплачиваться, «преодолевая рознь мира сего».
Вот те немногие произведения которые я хотел вспомнить. Те в которых по моему мнению война 1812 года особенно явно (некоторые из них были написаны про именно про эту войну). Конечно же это не все произведения, ведь даже чтобы перечислить их названия ушло бы гораздо больше листов. Любые события происходящие в мире и в стране отражаются в литературе. Вот все что я хотел написать.