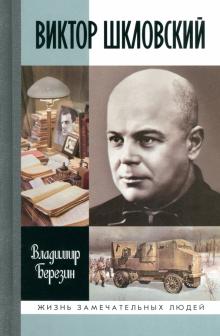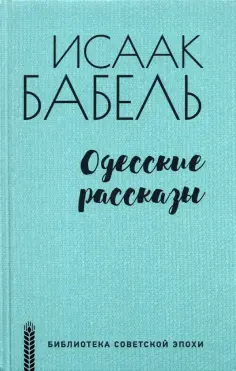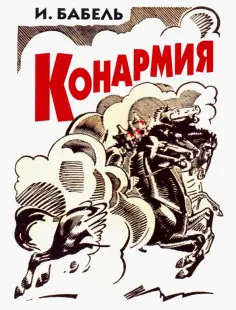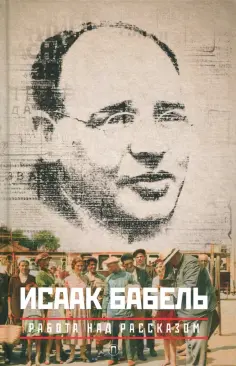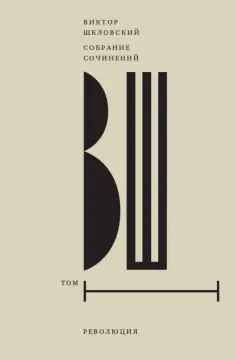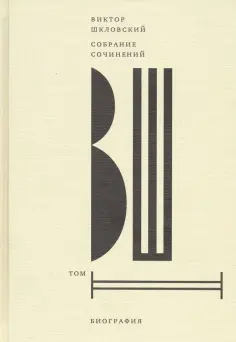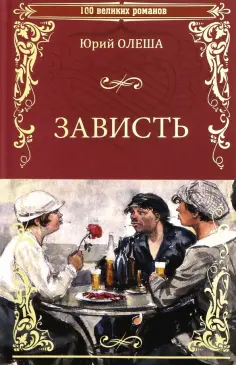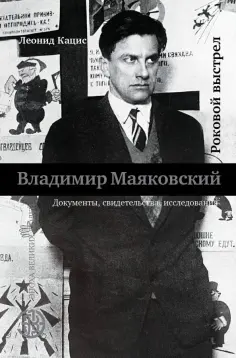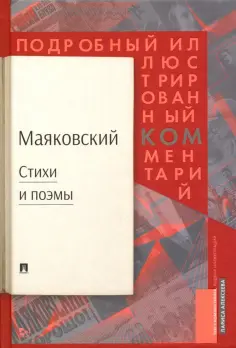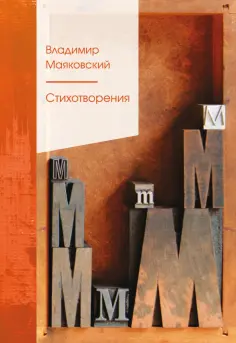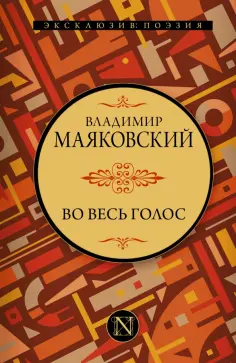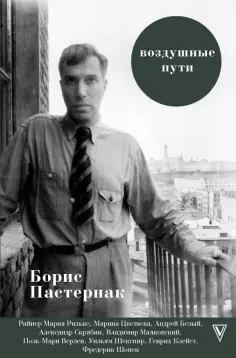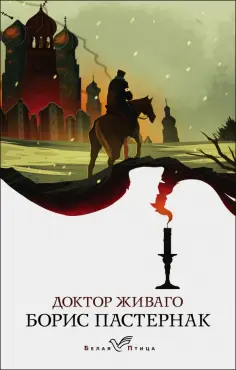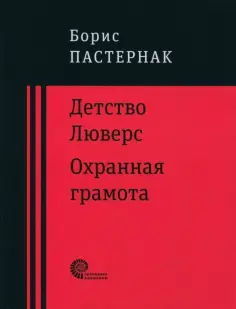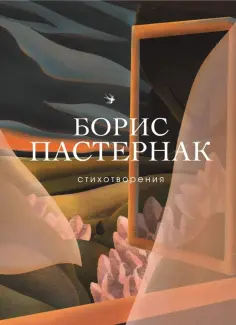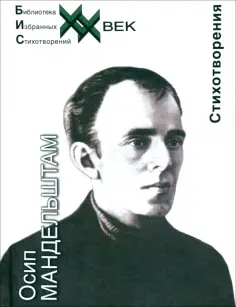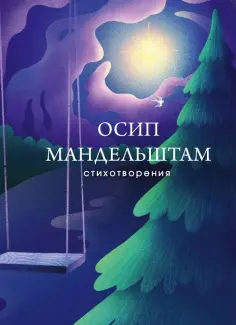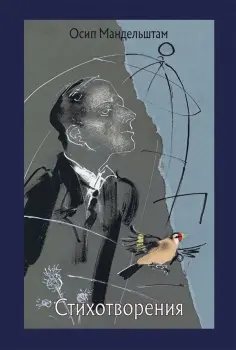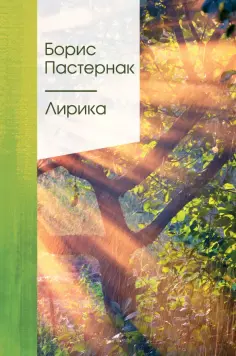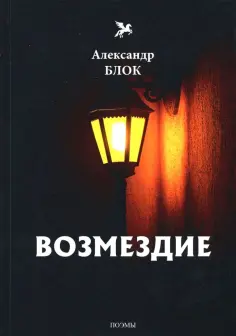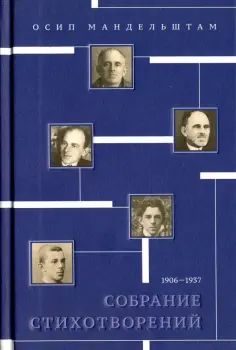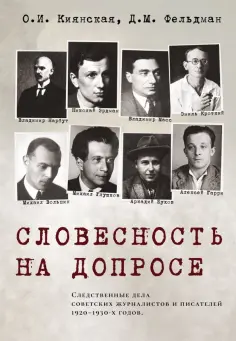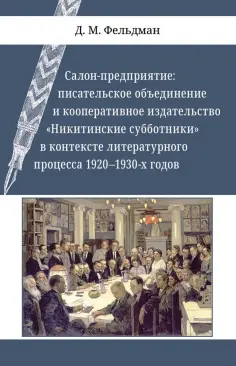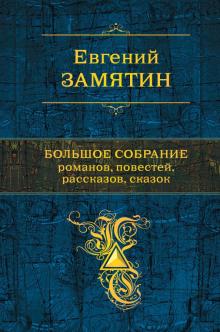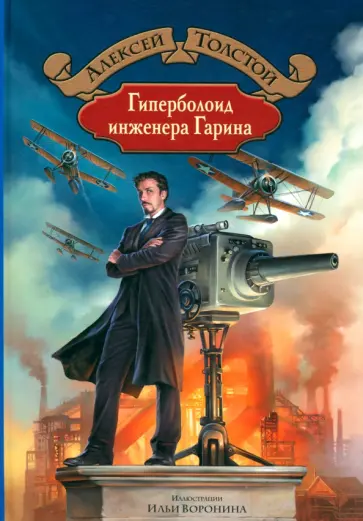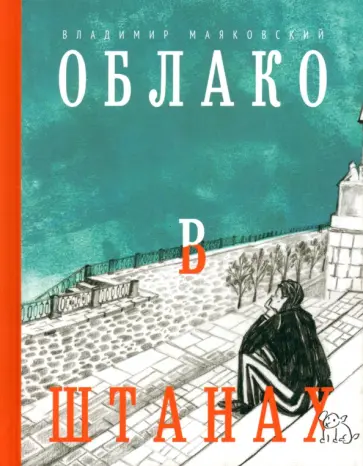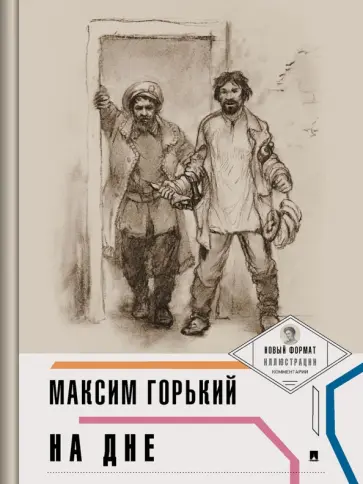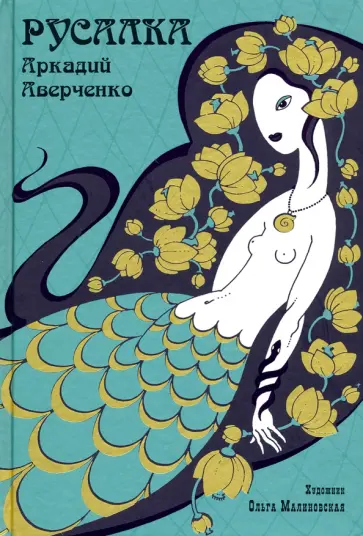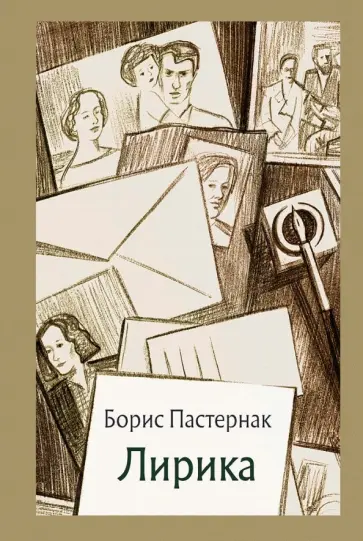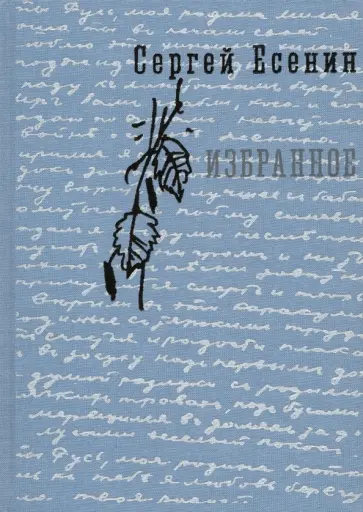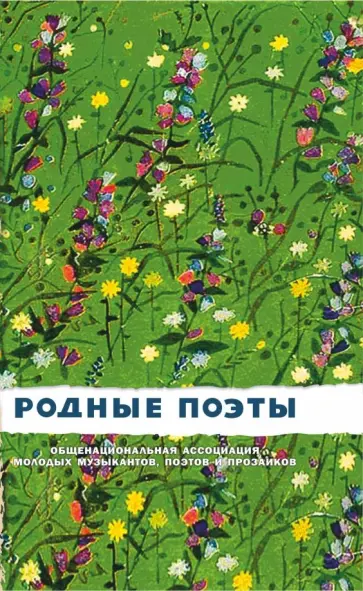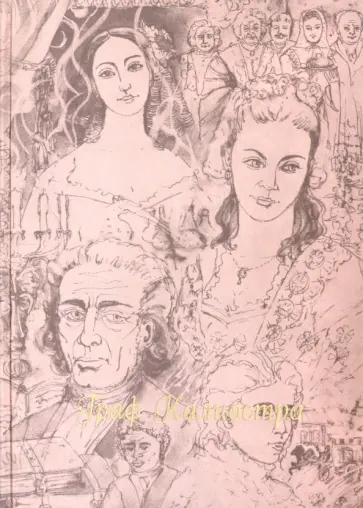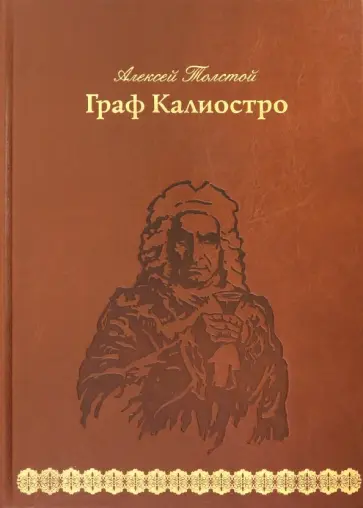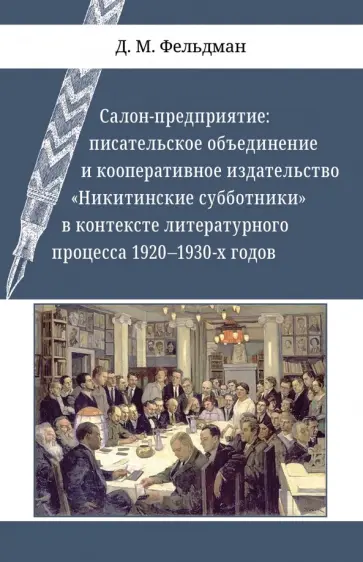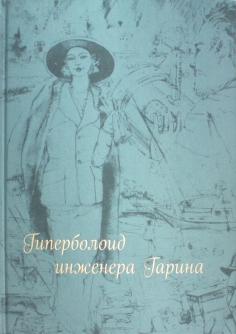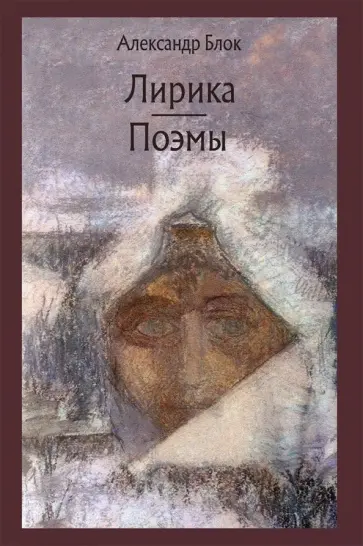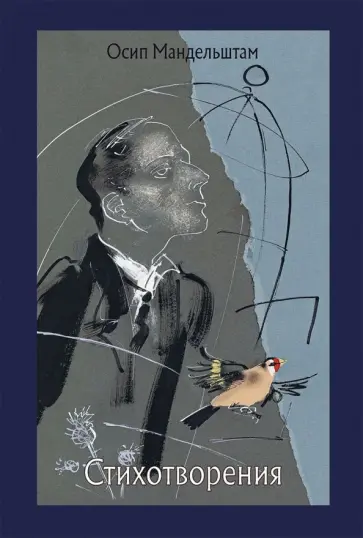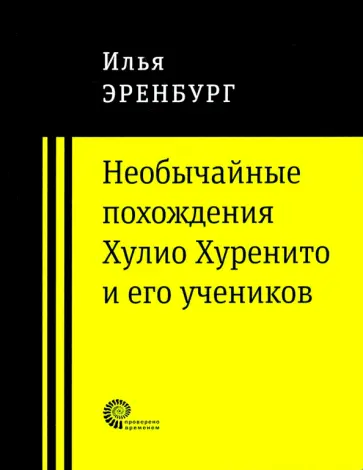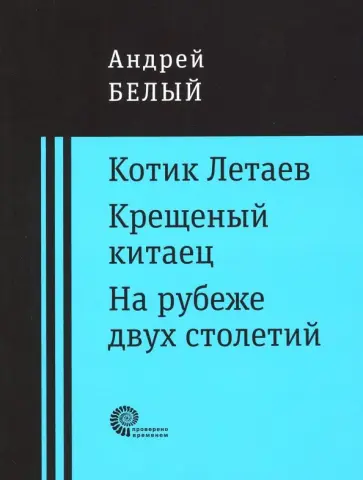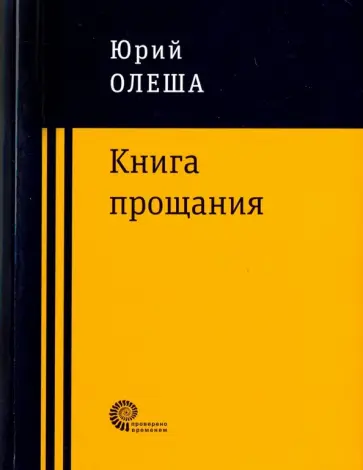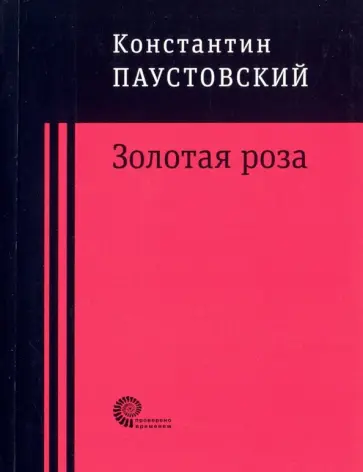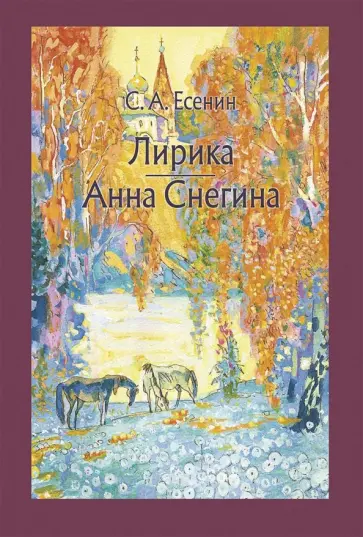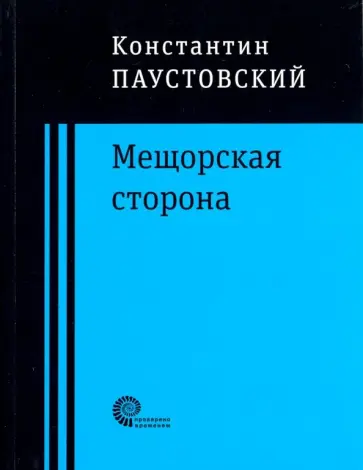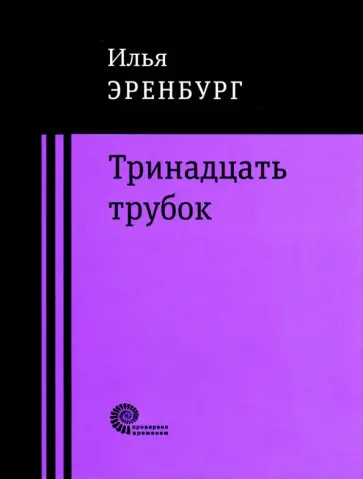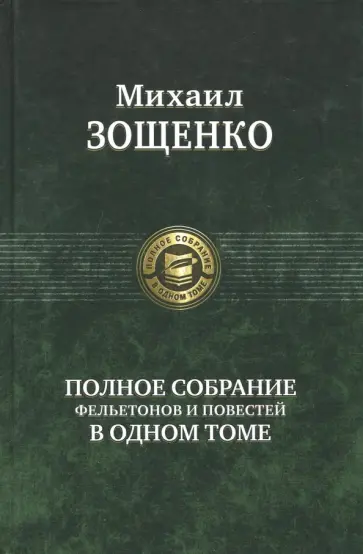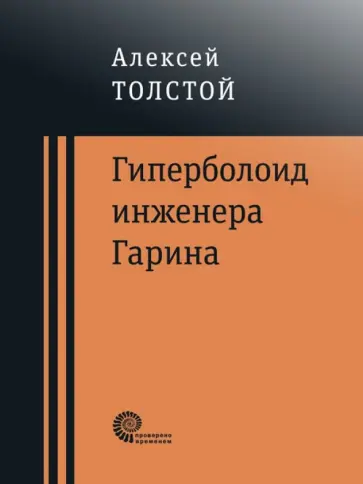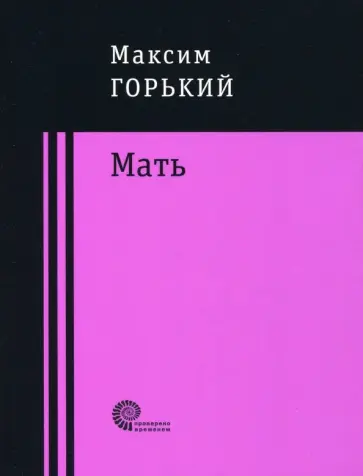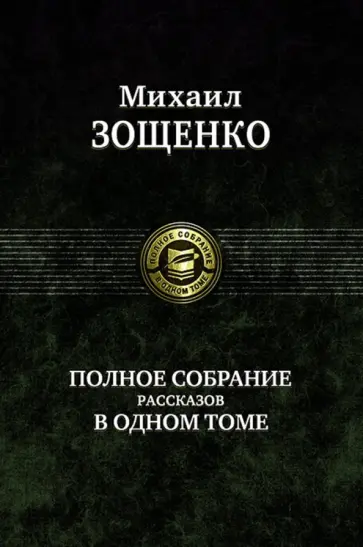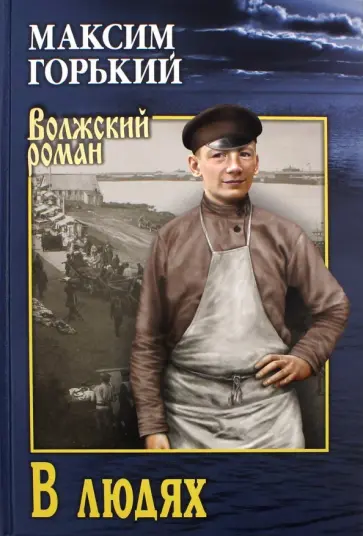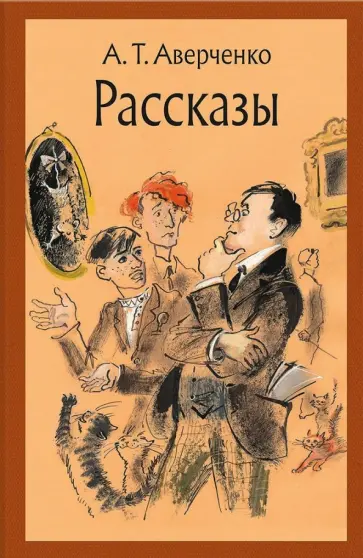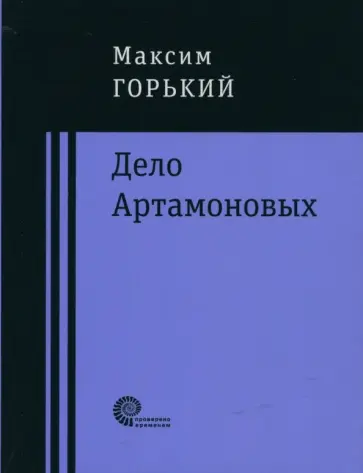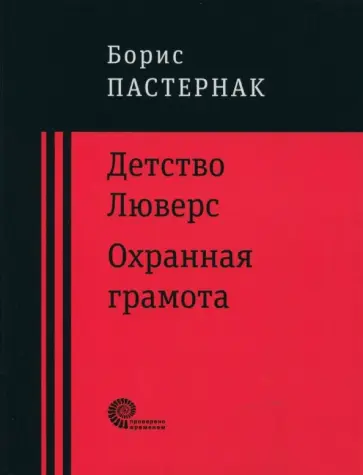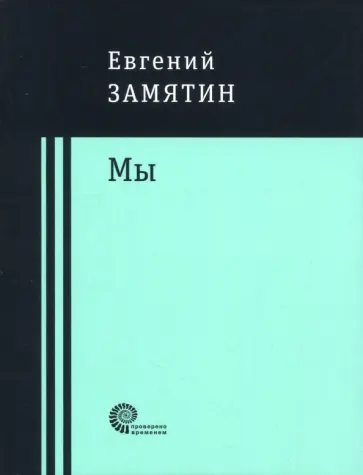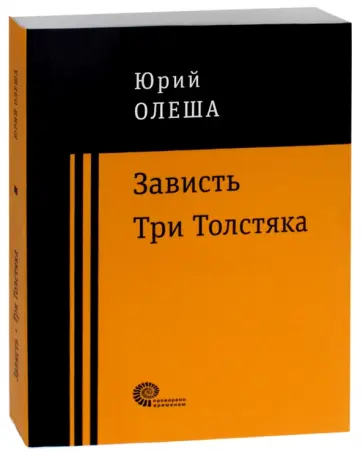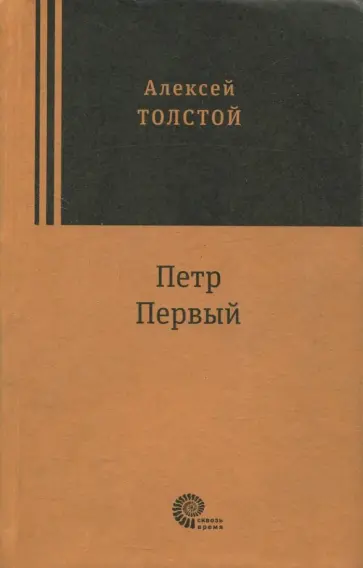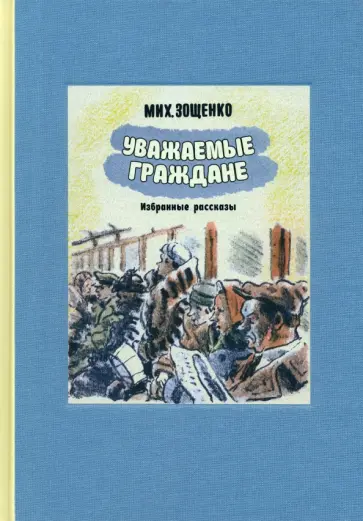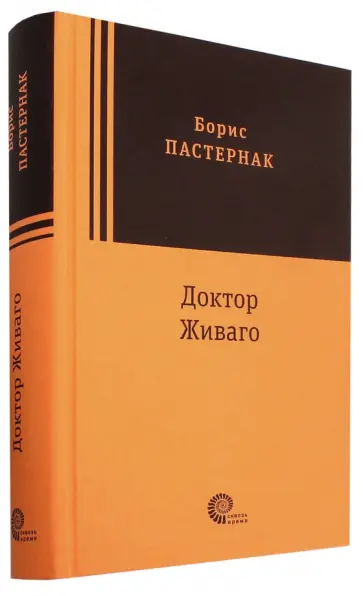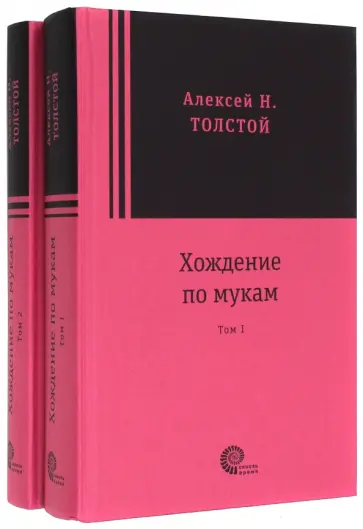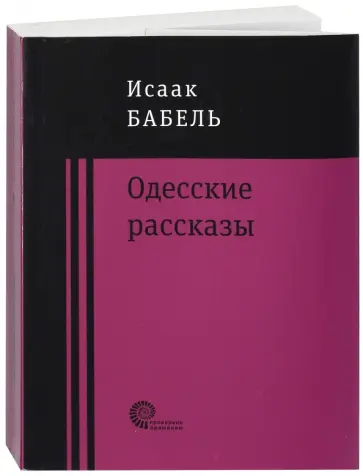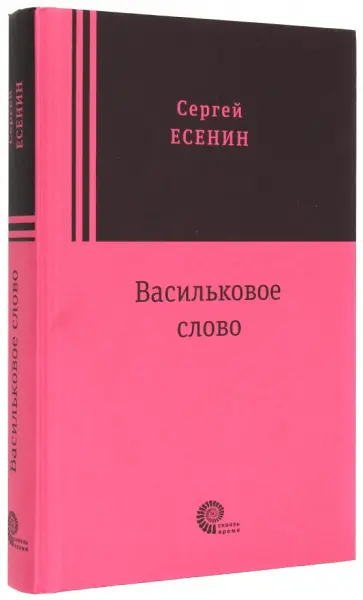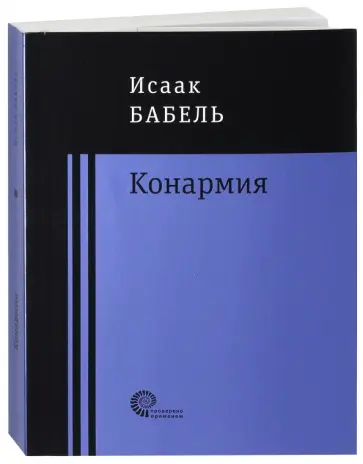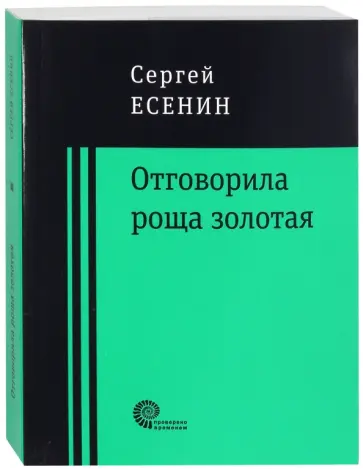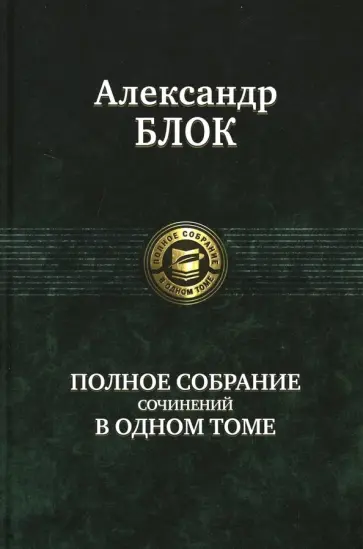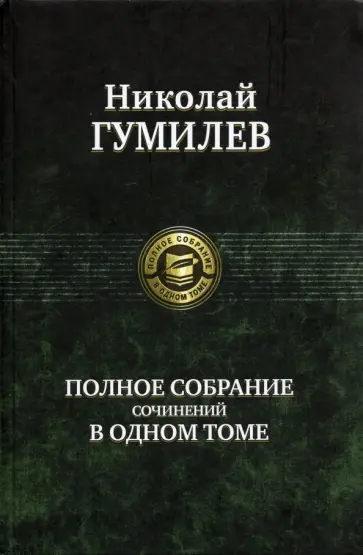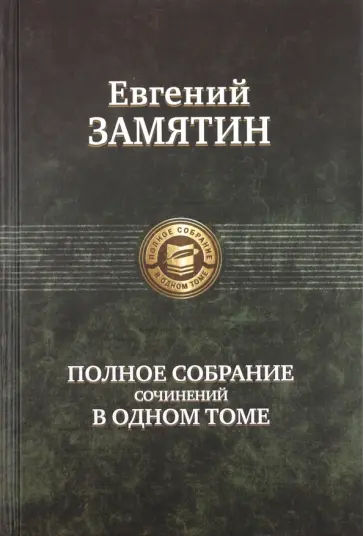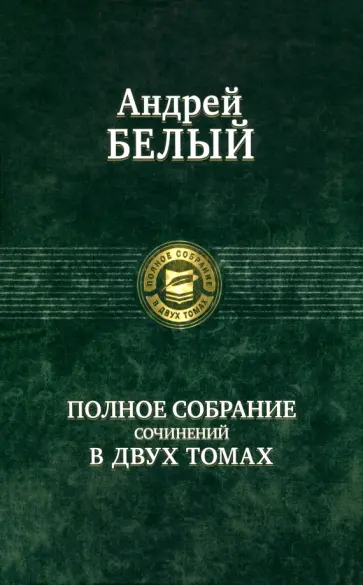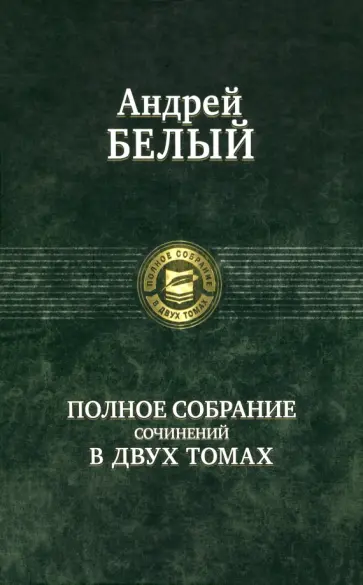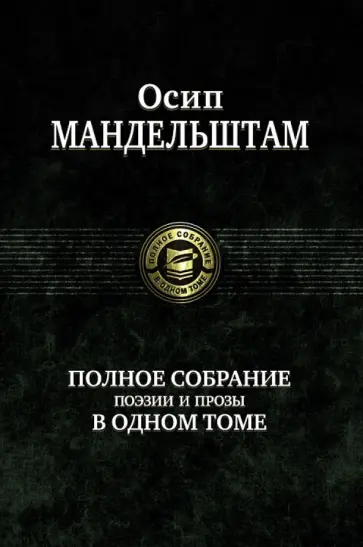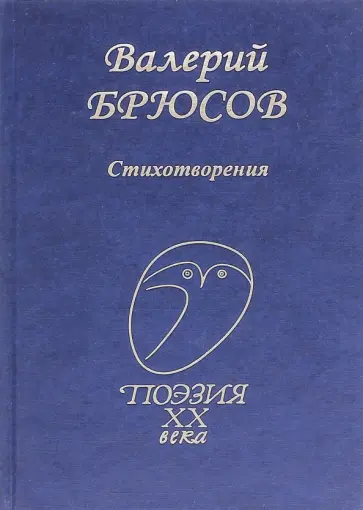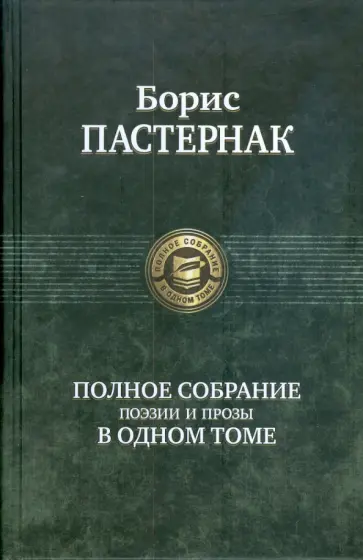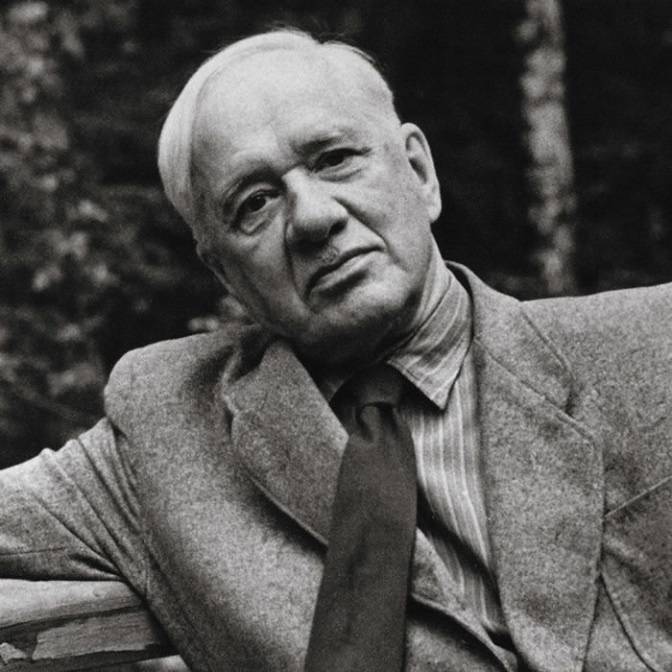Тэги
Авторская рубрика Афанасия Мамедова
Закончился год 2021-й. Невольно оглядываясь назад, мы анализируем прошлое, пытаемся заглянуть в будущее и провести исторические и литературные параллели: что случилось в нашей словесности, а значит и в нашей истории, сто лет назад, на перекрестке 1921 и 1922 годов?
Каким он был, год 1921? Таким, каким описал советское будущее Евгений Замятин в романе «Мы», а затем подхватили Олдос Хаксли в книге «О, дивный новый мир», Джорж Оруэлл — в «1984», Владимир Набоков — в «Приглашении на казнь»?
Факты рисуют нам противоречивую картину. В 1920 году Красная армия восстановила контроль практически над всеми территориями Советской России. Белые ушли из Крыма. Гражданская война в стране завершилась. Но как? И что ждало впереди молодое государство, образованное на просторах огромной империи?
Продразверстка, голод в Поволжье, который на самом деле охватил чуть ли не полстраны, восстание в Крондштате, амнистия для белогвардейцев, закончившаяся их же массовым расстрелом, перенаселенные клокочущие коммуналки, миллионы беспризорников, начало НЭПа… В литературной действительности — смерть Блока и Гумилева, которые провели окончательную черту между «старым» и «новым»; появление Дома Искусств, что расположился на углу Невского проспекта и набережной Мойки и спас многих отечественных писателей (и тех, кто впоследствии навсегда покинул Советскую Россию, и тех, кто предпочел в ней остаться), выход знаменитого сборника «Смена вех» и статьи Евгения Замятина «Я боюсь», предрекающей скорое будущее нашей литературы…
Как советские писатели обустраивались в то непростое время, чего были лишены и чего хватало у них вдосталь? Что происходило в начале третьего десятилетия XX века в отечественной литературе и рядом с ней? Читали ли в 1921 году или не до того было в этот «испепеляющий» год? Как зарождался особый язык писателей нового поколения — Бабеля, Олеши, Шкловского, Мандельштама?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить: писателя Владимира Березина; историка литературы, заведующего Лабораторией мандельштамоведения РГГУ, профессора Леонида Кациса; историка, издателя и общественного деятеля, кандидата исторических наук, издателя Модеста Колерова; историка, литературоведа, профессора РГГУ Давида Фельдмана.
|
Синхронного времени для литературы не существует
|
Афанасий Мамедов 1921 год, который кто-то считает первым годом Советской власти — Александр Блок в череде первых лет советской власти назвал «испепеляющим годом». Если верить «Дневникам» Зинаиды Гиппиус и «Окаянным дням» Ивана Бунина, а не доверять им нет никаких оснований — год конца одного неслыханного кошмара и начала другого, ни с чем несравнимого. Что говорить, время темное, без точных и подтвержденных документами данных — кто, где был и чем во время оное занимался. И все же, что в этот период делали Исаак Бабель, Виктор Шкловский, Юрий Олеша, которых, как я знаю, вы любите, о которых пишите… О Шкловском у вас ведь выходила книга в ЖЗЛ.
Владимир Березин Для начала нужно сказать, чтобы все-таки не путать читателя: первый год Советской власти кончился в 1918 году. А вот на четвертом году новой власти был и Кронштадт, и откат от военного коммунизма.
АМ Да, но все это время шла Гражданская война, а в начале еще и Первая мировая, и власть постоянно переходила из рук в руки на территории «размером в четыре Франции»…
ВБ Кстати, до сих пор дискуссионный вопрос — когда кончилась Гражданская война. Например, одна из дат — это 15 ноября 1922 года, когда развалилась ДВР, Дальневосточная республика, и превратилась в Дальневосточную область в составе РСФСР.
Я бы считал, что в 1921 году Гражданская война еще продолжается — и не только в Приморье, где «по долинам и по взгорьям» идут партизаны. Кронштадтское восстание происходит в марте, и тогда же объявлено о переходе к Новой экономической политике. Турецкие войска занимают Батуми, их потом вытесняют красноармейцы. В том же марте заканчивается проигранная война с Польшей — уступкой земель. В Монголии Унгерн в мае объявляет о походе против Советской России. В сентябре его судят и расстреливают в тот же день. Капица сидит в лаборатории Резерфорда. Летом умер Блок и расстрелян Гумилев, Гитлер стал председателем национал-социалистической рабочей партии. В этом же году Аркадий Аверченко издает «Дюжину ножей в спину революции», а Илья Эренбург — «Хулио Хуренито».
АМ Получается, что 1921 год — время, когда «еще ничего не кончилось»?
ВБ Все это говорит нам об этом. Одновременно начинаются процессы, которые станут главными спустя десятилетия, и в то же время еще до конца не исчез старый мир, на политической и литературной сцене уходят одни актеры и приходят другие.
Стиль времени не устоялся. Поэтому в поздних воспоминаниях, письмах и анкетах все участники событий тех лет врут о произошедшем. Одни — чтобы, как герой набоковского рассказа «Соглядатай», выглядеть героем, другие — чтобы объяснить поражение, третьи — чтобы спасти свою жизнь от опасного эпизода в биографии.
АМ Принято считать, что Серебряный век литературы завершился как раз в 1921—1922 гг., когда погибли Блок, Гумилев, Хлебников… Насколько это вообще верно, ведь многие другие серебряновечные поэты еще оставались живы?..
ВБ В общем верно, потому что дыхание — не всегда определяющий фактор жизни. После августа 1921 года поменялся стиль. А всякие настоящие перемены — это как раз перемены стиля.
АМ Насколько точны наши сведения о жизнедеятельности известных литераторов в этот период?
ВБ Биография Шкловского перепутана вся, потому что он пересочинял ее несколько раз за свою длинную жизнь. Для него 1921 год сравнительно спокойный — по сравнению с предыдущим и следующим. Он живет в Петрограде, 1 февраля происходит первое заседание «Серапионовых братьев». А в Серапионовом братстве он, получивший точное именование «Брат-Скандалист», является одной из главных фигур. Много печатается, пишет первую часть одной из лучших книг о Гражданской войне — «Сентиментальное путешествие». Эта часть называлась «Революция и фронт».
Все это закончится в марте следующего, 1922, года, когда Шкловский, перейдя на нелегальное положение, уйдет в Финляндию по льду Финского залива. (Чтобы потом вернуться уже из Германии в сентябре 1923 года).
АМ Как вам кажется, что общего между этими тремя писателями — Шкловский, Бабель, Олеша — такими непохожими друг на друга, с такой разной судьбой?
ВБ У этих трех есть несколько общих черт: во-первых, они все немного изгои для русской классики, евреи Шкловский и Бабель, поляк Олеша. Но это важный подарок для писателя: если бы они двигались в русле старой традиции (как, например, Паустовский) у них бы ничего не вышло. А тут им нужно было преодолевать сопротивление среды. Следующее, и самое важное сходство: все они придумали свой, абсолютно узнаваемый стиль. Короткие строчки Шкловского, будто человек переводит дыхание после погони, парадоксальная конструкция метафор Олеши, особый язык Бабеля. И революционного стиля у них больше, чем в коннице Буденного.
АМ Какой была роль Шкловского в группе «Серапионовы братья»? Ведь в состав ее он не входил, но почему-то не пропускал ни одного собрания братьев и одной сестры. К тому же говорят, когда чекисты попросили выкуп за жену Шкловского, Василису, именно серапионы внесли сумму в двести рублей золотом.
ВБ В состав братства он все же входил и даже значился в официальных списках. А выкуп за жену Шкловского вносили не только серапионы, но они, конечно, были главными донаторами. Шкловский неотделим от «Серапионовых братьев» — отношения со многими из них он сохранил на многие годы. (Хотя серапионы время от времени и предавали друг друга и свое прошлое — но уж из нашего-то времени легко судить о грозивших им опасностях и искушениях).
Важно то, что Шкловский, как и Лев Лунц, был не только писателем, но и теоретиком литературы. Есть воспоминания сына Корнея Чуковского, Николая: «Несколько в стороне <от „Серапионовых братьев“ — В. Б.> стоял один только Виктор Шкловский — все-таки он был литератор другого поколения, начавший значительно раньше и не сливавшийся с остальными серапионовцами полностью. Да и не особенно он был, по-видимому, интересен таким серапионам, как, скажем, Никитин или Зощенко, не отличавшимся особой склонностью к теоретическим умствованиям по поводу литературы».
Но что до остального, то, несмотря на уже полученное имя Брат-скандалист, Шкловский полноправный «серапион», про братство много писавший и интересно о нем вспоминавший.
АМ Еще до революции существовало такое интересное явление, как псевдопереводной роман. О нем вспомнили в эпоху НЭПа, который начался в 1921 году. К примеру, тот же Борис Эйхенбаум писал о первой половине 20-х годов: «Теперь и русскому писателю, если он хочет быть прочитанным, надо придумать себе иностранный псевдоним и назвать свой роман переводом». Чем нэповский псевдопереводной роман отличался от дореволюционного? Когда начали появляться Пьеры Дюмьели (за этим псведонимом скрывался Сергей Заяицкий) и кто еще из известных писателей прятался за шикарными иностранными именами?
ВБ Мне кажется, что социальный заказ (а псевдопереводной роман тоже возник в рамках невысказанного вслух социального заказа) — вещь понятная. Их взлет произошел примерно в 1924 году, потому что сразу ничего произойти не может. Дело не в производительной способности писателя (короткий роман можно написать быстро), а в появлении у него мотива. В данном случае мотива денежного, то есть должна возникнуть система книгопечатания, продажи, и наконец, получения гонорара.
В 1923 один из серапионов пишет другому: «Госиздат заказывает авантюрные романы», чего уж тогда говорить о кооперативных издательствах. Звезда Пьера Дюмьеля (Сергея Заяицкого) восходит в 1926.
АМ А настоящие переводы известных зарубежных писателей в то непростое время тоже появлялись?
ВБ В 1929 году Осип Мандельштам написал статью «Потоки халтуры» (название, впрочем, придумал не он, а редакция), и речь там идет именно о переводах. Там он делает очень интересное наблюдение, что герои Анатоля Франса и авторов бульварных романов говорят одним языком, что переводы — дрянь, а причина в том, что их делают не переводчики, а просто люди «из бывших», которым нельзя устроиться на приличную работу из-за социального происхождения. Но примерно то же случилось и с псевдопереводными романами — в массе своей их писали случайные люди.
Вот Шкловский пишет: «Джек Лондон, О Генри, Пьер Бенуа сейчас самые читаемые русские писатели». Пояснять тут нужно только личность Пьера Бенуа (1886−1962), француза, писавшего приключенческие романы (сорок наименований — правда, к 1957 году). Шкловский имеет в виду не халтуру, а именно литературу добротную. Об отечественных псевдопереводных романах такого не скажешь, и с Джеком Лондоном не сравнишь. Все они провалились в бездну забвения.
Есть, впрочем, немногие исключения — типа «Месс-Менд» (1924−1925) Мариэтты Шагинян. (Он был написан от лица вымышленного американца Джима Доллара).
Главное отличие «неповского псевдопереводного романа» от историй о глупом милорде начала ХХ века в том, что у этого жанра сменился адресат. Те читатели, что у него были в середине двадцатых, имели опыт войны и социальных потрясений. Они видели мертвецов в сотни раз больше, чем читатели начала десятых. Жажда сентиментальности у них была другая, нежели чем у сытых людей начала века.
Аналогичная история случилась, кстати, в девяностые годы прошлого века. Особенно в фантастике было модно брать иностранный псевдоним и писать фэнтези или космические оперы от лица какого-нибудь Генри или Джеймса.
АМ Вернемся к Шкловскому, Олеше и Бабелю. Все три автора, о чем бы они ни писали, со своим особым языком и неподражаемым стилем. Можно сказать, что стиль их породила революция? Вообще новый язык в советской литературе уже начал складываться к 1921 году?
ВБ Этот язык начал складываться еще до революции. Например, тот самый прием Шкловского, что стал называться «воздух между строк», использовался еще Власом Дорошевичем. Со стилем накануне революции работали многие поэты, вспомним эксперименты Маяковского и его друзей. Проза более инерционна, чем поэзия. К тому же, случился такой катаклизм, как мировая война — а она у нас плавно перешла в гражданскую, и вот эти восемь лет массового смертоубийства, нищеты и голода, хочешь не хочешь, а приведут к новому языку. Когда человеку больно, он начинает говорить несколько иным тоном, чем когда просто передает соль.
АМ В 1921 году Исаак Бабель публикует два своих рассказа «Иисусов грех» и «Король», можно сказать, что они уже открывают нам того Бабеля, «оптимиста революционной войны», которого мы все знаем, любим и чтим, и о котором Шкловский в своем знаменитом «Гамбургском счете» позднее скажет, что о триппере и о звездах он писал одним языком?
ВБ Да, можно, наверное. Но только если мы будем держать в памяти то, что нам очень повезло с Бабелем. Автор «Конармии» шире своих одесских рассказов, а автор «Одесских рассказов» шире бойца конармии, ну, а Бабель — автор «Нефти» — это еще один писатель.
АМ Вы готовы согласиться таким эпатажным положением Виктором Шкловским, будто «русская литература сера, как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки из кожи цвета небесной лазури», или это такая несерьезная «песнь победителя»?
ВБ Эта фраза о русской литературе продолжается следующими словами: «Ей нужно и то, что понял Бабель, когда он оставил своих китайцев устраиваться, как они хотят, и поехал в Конармию». То есть смысл этого вполне прозрачен: Шкловский говорит, что сейчас очень важна литература действия, а не состояния, важен опыт и исследование мира.
Собственно, эта заметка о Бабеле заканчивается так: «Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены. Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом для создания новой формы». Никакой тайны, второго смысла, песней победителя тут нет. Кстати, в рукописи этот текст заканчивался иначе: «Бабель сделал хорошо, что ходил в атаку с буденовцами. Я не знаю, за что я упрекаю его. В самой сущности романтики заложена ирония. Иногда писателя из-за этого разгадывают дважды по-разному. Нарядный и иностранный, он русский писатель. <…> Самое лучшее в Бабеле то, что его книги близки к (прекрасно — зач.) нарядно написанным заметкам „военного корреспондента“. Читатель разгадает Бабеля по-своему, вложив в него свой пафос».
Поздние воспоминатели (например, Леонард Гендлин), говорили, что красивой фразе о галифе и ботинках Шкловский оставался верен и даже в поздние годы говорил, что не отказывается от мысли о серости русской литературы (правда, «чижик» заменялся мемуаристом на «чайник»).
АМ Подводя итог нашей беседе, каким оказался 1921 год для советской литературы, можно его назвать — определяющим или таким стал уже год 1922?
ВБ 1921 год был годом прощания. В этом году можно было пытаться примирить происходящее с революцией, причем именно с «Революцией», такой идеей с большой буквы. Блок пытался это сделать и умер, надорвавшись. И, одновременно, это был год подготовительный. Символично, что в следующем году, собственно, возник СССР. А знаете, кстати, самую популярную книгу, вышедшую в 1921 году? Я думаю, что ее никто не угадает, меж тем ее имя еще на слуху, особенно у старших поколений. В 1921 году впервые вышли таблицы Брадиса.
Они сперва назывались «Таблицы четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин», потом меняли название, но это не так важно. Важно то, что это был бумажный компьютер, который сопровождал школьников (а то и студентов) все время существования СССР. Почему в разговоре о литературе я вспоминаю учителя математики Виктора Модестовича Брадиса? Потому что в судьбе его таблиц (судьба самого Брадиса была еще круче — через двадцать лет, уже за пятьдесят, он ушел в народное ополчение, а потом еще стал академиком), есть назидательное начало для всех книг. Никакого синхронного времени для литературы на самом деле не существует.
АМ У меня к вам, Владимир, традиционный вопрос: какие из произведений трех авторов — Шкловского, Бабеля и Олеши — вы бы настоятельно рекомендовали прочесть завсегдатаям Лабиринта?
ВБ Из Шкловского — «Сентиментальное путешествие» и «Zоо», из Олеши — «Зависть» и «Книгу прощания», из Бабеля — «Конармию». Тут все очевидно.
|
Это был билет в один конец
|
Афанасий Мамедов Константин Федин называл 1921 год самым двусмысленным годом революции. В своих работах вы часто говорите о том, что в период октябрьского переворота существовал едва ли не глобальный социалистический консенсус. Могли бы вы сказать, во что он превратился к рубежу 1921−1922 годов, как сказался на культуре вообще и на литературе в частности?
Модест Колеров В начале 1920-х этот консенсус победил в войне, пришел к власти и начал распределять идейно-политические блага. Даже антисоциалистическая оппозиция умолкла, а небольшевистские социалисты практически перестали претендовать на власть и мирно пошли на советскую службу в разные ведомства. Вот тут и оказалось, что новая, большевистская власть — власть диктатуры, а не консенсуса. И былой социалистический консенсус оказался диктатуре не нужен. Большевики начали истребительную борьбу за власть внутри своей партии. И все остальное на этом фоне просто померкло. Фанаты, карьеристы и ремесленники, в том числе и от культуры, вступили в «сплоченные ряды» коммунистов. А социалисты менее радикальные были записаны в предбанник «попутчиков».
АМ В 1918 году крупнейшими представителями русской философской мысли и известными деятелями культуры начала ХХ века был составлен сборник «Из глубины». Он продолжил традицию, начатую ранее «Проблемами идеализма» и «Вехами», в которых публиковались размышления об истоках и перспективах русской революции, о месте интеллигенции, о духовных корнях, об общественной жизни. Что стало с авторами этих сборников на рубеже 1921−1922 годов?
МК Авторы сборника «Из глубины» раскололись: часть из них ушла в Белую армию, часть осталась под большевиками и была ими репрессирована, часть пошла на службу к новой власти и еще одна часть была выслана большевиками за границу. Главное: их временная солидарность закончилась, а главный пафос стал взаимоисключающим —остаться в стране и с народом, либо уйти в эмиграцию, дожидаясь интервентов и гибели большевиков.
АМ Эпопея с «Философским пароходом» у нас ассоциируется с 1922 годом, однако я читал в самых разных источниках, что и пароходов было несколько, и рейсов — не один и не два. Эта практика высылки «лишних» началась в 1921 году, вроде бы чекисты даже деньги за это брали (ну, не на свои же «контру» перевозить). А две знаменитые «ходки» остались в истории только лишь потому, что Ленин захотел придать этому делу огласку, чтобы Запад увидел, какими вежливыми могут быть большевики. Что здесь правда? И как эта планомерная высылка сказалась на советской науке, философии, литературе?
МК Да, каналов и партий высылки было больше одной. И высылка происходила не только в Германию, но и в Константинополь. Сохранить это в тайне было в принципе невозможно, потому что большинство высланных были публичными людьми, пишущими и во весь голос говорящими фигурами. И по прибытии за границу они, конечно же, громко заговорили. Это было нужно им, прежде всего, для карьерного успеха на новом месте. Ленину же, по большому счету, было наплевать на то, что и как они говорят в своей принудительной эмиграции. Иначе бы он их просто сгноил в концентрационных лагерях (где до высылки много времени провел, например, «веховец» и «изглубинец» Арон Соломонович Изгоев) или расстрелял как заговорщиков 1919—1921 годов. Для понимания «вежливости» Ленина важно учесть и шедшие в РСФСР, почти параллельно высылке, процессы над политической оппозицией. Но высланные деятели культуры были, скорее, из разряда идеологов, а не заговорщиков. Потому их просто изгнали.
АМ Как я понимаю, билет был в одну сторону? Никто из покинувших страну философов и деятелей науки назад уже не вернулся? Возвращение на родину без санкции Ленина и его личного на то одобрения каралось расстрелом?
МК Расстрелом тогда пугали всех и все, кому не лень. Деятелей оппозиционного Комитета по борьбе с голодом 1921 года тоже ставили перед безумным ныне выбором: высылка или расстрел. Конечно, это был билет в один конец, хотя многие из высланных верили, что уезжают из России ненадолго. В тех исторических условиях возвращение без согласия властей было абсолютно невозможно, если только нелегальное. Никто сам и не вернулся. Только после присоединения к СССР Литвы с нею вместе вернулся и Лев Платонович Карсавин.
АМ Каким вам, историку философии, видится из нашего 2021 года год 1921, можно сказать, что он был решающим для укрепления новой власти?
МК Решающим был год 1920-й. А к 1921 году Советская власть убедительно победила в Гражданской войне, восстановила централизованный контроль почти надо всей территорией бывшей Российской империи, кроме Бессарабии, Польши (вместе с Западной Украиной и Западной Белоруссией) и Финляндии. И поэтому начала нэповскую либерализацию экономики и общественной жизни. В этом контексте высылка 1922 года была тоже результатом либерализации: репрессивным определением границ позволенного, идеологической унификацией.
АМ По традиции, пользуясь случаем, я спрашиваю своих собеседников, какие книги они посоветовали бы прочесть читателям Лабиринта. Хотел бы спросить и у вас, книги каких философов первой половины ХХ века вы бы посоветовали к обязательному прочтению?
МК Недавно я вновь открыл для себя пробольшевистский сборник статей «Смена вех» (1921), который в последние 30 лет просто презирал. Открытие было в том, что сборник предельно насыщен аллюзиями русской общественной мысли первой четверти ХХ века, он являет собой настоящую «энциклопедию» русской публицистики. Дело в том, что, выстраивая свое единовластие, большевики решили монополизировать и все минимально лояльное в русской интеллигенции. А нелояльных — просто выслали. Из моих новых-старых открытий я бы назвал еще книги Павла Новгородцева и Николая Бердяева. Как ни странно, они просто не прочитаны в России в полной мере.
В 1921 году в Праге вышел сборник статей «Смена вех», давший название целому движению. Его авторы полагали, что сотрудничая с большевиками, они служат стране, а не большевистскому режиму.
|
Время срастания исторических увечий определяет большая история
|
Афанасий Мамедов Одно из самых ярких литературно-художественных явлений 1920-х годов — знаменитый ЛЕФ (Левый фронт искусств), возглавляемый Маяковским. Одни источники считают официальной датой его рождения 1923 год, другие с завидным упорством называют 1922 или конец 1921 года, а по-вашему, с какого момента можно отсчитывать зарождение этой литературной группы?
Леонид Кацис Если мы будем исходить из даты выхода в свет самого журнала «ЛЕФ», то 1923 год вполне подойдет. Если исходить из того, что журнал такой острой направленности — и идейной, и эстетической, в сложнейшем полиграфическом исполнении (заметьте, в доэлектронную эру!) надо еще придумать, подготовить, скомпоновать в единое целое, то вторая половина 1922 года будет в самый раз. Ну, а если мы с вами будем учитывать еще и то обстоятельство, что Левый Фронт Искусств возник не на пустом месте и держать в уме, что примерно в 1921 году его «самая левая» команда почти в полном составе, потеряв по пути лишь Давида Бурлюка, постепенно перебирается из Владивостока и его округи в Москву (не прекращая при этом деятельность футуристической литературно-художественной группы «Творчество» в Чите и Владивостоке и продолжая развивать идеи Николая Чужака), то 1921 год окажется той самой порой, которую можно назвать зарождением этого движения.
АМ Для полноты картины тут уместно вспомнить и не безуспешную попытку организации так называемой Московской (в будущем Международной) ассоциации футуристов.
ЛК В самом конце 1921 года большевики создали условия для развития частного книгопечатания, тогда же Маяковский и Осип Брик незамедлительно подали заявку Луначарскому на открытие футуристического издательства. Хотел бы вам напомнить и о замечательной авантюре по изданию в буржуазной Риге поэмы Маяковского «Люблю» под эгидой Лили Брик, вполне активно пользовавшейся диппочтой, Григория Винокура, сотрудника Полпредства СССР в Риге, и еврейских коммунистических организаций. Кончилось она скандальным визитом Маяковского в Ригу в 1922 году, обвинением латвийских властей в призывах к свержению власти, изъятием напечатанной там поэмы (хотя еще раньше она выходила во ВХУТЕМАСе), и повесткой в суд.
Заметим, что и сама Лиля Брик, и ее мать Елена Коган (в девичестве Берман), работавшая на тот момент в советских торгпредствах в Лондоне, где она жила до 1932 года, уже тогда тяготели к с самыми специфическими органам молодого Советского государства.
Что же касается непосредственно издательства «ЛЕФ», то первые документы, как показал еще в начале 1990-х гг. Ефим Динерштейн, были поданы в декабре 1922, и уже 16 января 1923 года решение было принято. Так что в этом вопросе, кажется, правы все!
Интересно, что первоначально против футуристов и их издательства выступил тогда еще не «САМ!» товарищ Сталин. (До его роковых для посмертной судьбы поэта слов о Маяковском — «лучшем и талантливейшем» — оставалось чуть меньше тринадцати лет.)
АМ Какую роль в возникновении группы ЛЕФ сыграл Осип Брик? Когда заходит о нем разговор, то прежде всего вспоминают о лодке, разбитой о чей-то быт, о том, что он муж Лили Брик и давний друг Владимира Маяковского — главного поэта того времени, который мог оставить на столе свое новое стихотворение и бросить на ходу: «Оська, расставь запяташки…». Но стоит окунуться в первые годы Советской власти, как мы удивимся тому, насколько часто будет фигурировать имя Оси, Осипа Брика, в культурной жизни тех лет.
ЛК Надо сразу сказать, что мифология советского времени многое исказила в соотношениях и раскладе историко-литературных сил. В ход шло все — от искусного анекдота, после которого уже не поднимались, до сфабрикованного навета, после которого оставалось только положить висок на дуло. К примеру, во времена оны ходили слухи, что первые книги Маяковского были изданы исключительно на средства сына короля кораллового рынка России — Осипа Брика, но это были далеко не всегда слухи. Что же до самого Брика, можно сказать, что его роль была достаточно заметной, чтобы о нем складывали анекдоты. Невозможно переоценить его роль в том, что происходило в самые первые послереволюционные годы в Петрограде, где выходила знаменитая газета «Искусство коммуны». Принадлежат Брику и серьезные достижения в истории и, главное, в теории русского стиха.
Вот вам для иллюстрации безжалостной борьбы литературных лагерей убийственная эпиграмма на Осипа Брика, приписываемая Сергею Есенину:
Вы думаете, кто такой Ося Брик?
Исследователь русского языка?
А он на самом-то деле шпик
И следователь ВЧК.
АМ Ничего не скажешь, в духе ЛЕФа, в духе Маяковского, в духе той «белогвардейской» записки, которую однажды передали поэту — «Гадина, сколько тебе дадено?..»
ЛК Ну, Есенин мог легко спародировать кого угодно. К тому же я не сказал, что это именно он, я сказал, что эти строки приписываются ему.
АМ Эта эпиграмма — навет?
ЛК Сегодня, мы знаем точно, чем занимался Брик в ВЧК. В основном, разработкой поиска по картотекам. Из ЧК он был уволен, как показал его давний недоброжелатель Валентин Скорятин, за отказ участвовать в боевых операциях этой организации. Так что мы вполне можем ограничиться первым двустишием.
АМ Честно говоря, не так легко прослыть «исследователем русского языка» или русского стиха на фоне Романа Якобсона, Григория Винокура и других филологов тех лет вполне мирового уровня, не забывая, конечно, и о Викторе Шкловском.
ЛК Безусловно! К тому же, Брик писал еще прозу (в период ЛЕФа — «Непопутчица) и киносценарии. К слову, сейчас в бывшем Полиграфическом институте, а теперь Университете печати, проходят очень содержательные, судя по двум объемным томам материалов, «Бриковские чтения». А в Астане работает Анатолий Валюженич, издавший многое о самом Осипе Брике, о Лиле Брик, о их жизни до и после кончины Маяковского, о литературных и киносценарных работах Брика, включая сценарий легендарного фильма «Потомок Чингис-хана».
По сути достаточно того, что четко и ясно написал Маяковский в своей автобиографии «Я сам» (и в редакции 1922, то есть в период ЛЕФа, и в редакции 1928 года, когда уже был «Новый ЛЕФ»):
«Радостнейшая дата
Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.
Призыв
Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже».
Вот и все источники разговоров о «запятых», если вам интересно…
АМ Какую роль «Потомок Чингис-хана» Всеволода Пудовкина, снятый по сценарию Ивана Новокшонова и Осипа Брика, сыграл в полемике конца 20-х годов с противниками журнала «Новый ЛЕФ»?
ЛК Дело в том, что текст сценария значительно отличается от самого фильма. Он полон острейшей полемики с противниками журнала «Новый ЛЕФ», выходившего с 1927 года, включая полемику с другой литературной группой — ЛЦК (Литературный центр конструктивистов) во главе с Ильей Сельвинским. А ведь в былые времена конструктивисты сами хотели дружить с ЛЕФом.
АМ В середине 50-х годов Борис Пастернак, в свое время тоже входивший в ЛЕФ, писал в автобиографическом очерке «Люди и положения», что после революции никакого поэта Маяковского уже не существовало. Та же позиция высказана Пастернаком и в «Охранной грамоте». Как это понимать, что он имел в виду? И почему многие из тех, кто знал Маяковского, включая Виктора Шкловского, сочли столь резкую оценку Пастернака предательством?
ЛК В данном случае нам необходимо отделить «Охранную грамоту» и «Люди и положения». Первая завершала юность Пастернака, прошедшую под сильным влиянием Владимира Маяковского. К слову, самоубийство поэта не было для него неожиданным: в своей «Балладе» 1929 года «Бывает курьером на борзом…», как мне уже приходилось показывать, Пастернак практически предупреждал Маяковского о возможности рокового шага.
А «Люди и положения» создавались в середине 1950-х годов, когда Борис Пастернак, уже написавший «Доктора Живаго», готовил свое предисловие к сборнику своих стихов, так и не вышедшему в 1956−57 годах из-за «живаговского скандала» и из-за того, что поэт не смог найти общий язык с властями. Для такого Пастернака послереволюционный Маяковский — «никакой не существующий», правда, с оговоркой — «за исключением предсмертного и бессмертного «Во весь голос».
АМ Однако в период существования ЛЕФа оба поэта были довольно близки?
ЛК В 1921—1922 годы были заложены глубокие противоречия, сыгравшие свою роль как в прижизненных, так и в посмертных отношениях двух поэтов. Но общего было много. Например, в 1924 году не только Маяковский писал поэму «Владимир Ильич Ленин», не только лефовцы издали целый номер о языке вождя мирового пролетариата, но и Пастернак занимался собиранием, как он сам говорил в романе в стихах «Спекторский», библиографии Ильича — мировой «Ленинианы». А в 1925 году Пастернак написал революционные по духу поэмы «1905 год», «Лейтенант Шмидт» и не только. Достаточно сравнить их с поэмой Маяковского «150 000 000», чтобы его влияние проступило во всей своей полноте.
Не будем забывать, что при самых сложных взаимоотношениях поэтов, поэма Маяковского «Про это» была напечатана в журнале «ЛЕФ» в первом номере рядом со стихами Пастернака. А в первом номере «Нового ЛЕФа» за 1927 год появился отрывок из «Лейтенанта Шмидта».
АМ Поскольку мы говорим о 1921 годе, не могу не вспомнить сцену встречи двух поэтов с Блоком, о которой Пастернак писал как раз в «Людях и положениях».
ЛК Речь там шла о последнем приезде Александра Блока в Москву в мае 1921 года. Тогда Маяковский и Пастернак дважды присутствовали на вечерах поэта. И если по воспоминаниям Корнея Чуковского, читавшего тогда лекцию о Блоке, (она стала потом основой его знаменитой книги), Маяковскому было смертельно скучно слушать Блока, то по свидетельству Пастернака, это было не так, они пошли и на второй вечер Блока, якобы для того, чтобы предотвратить провал автора поэмы «Двенадцать».
АМ Хотя Блока и Маяковского рядом представить трудно — сошлись две эпохи…
ЛК Напомню, как Маяковский в «никакой» (по Пастернаку) октябрьской поэме «Хорошо!» вспомнил о разговоре с Блоком, когда тот рассказал ему, что в Шахматове сожгли его библиотеку:
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здраствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока…
Незнакомки,
дымки севера
шли на
дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
Не будем искать смысловые и ритмические цитаты из «Двенадцати», неизбежные в разговоре. Просто констатируем: тогда футуристам, как считал Маяковский, была лафа!
АМ Отношение Пастернака к революции все же было другим…
ЛК Уже тогда в сопровождающей роман в стихах «Спекторский» прозаической повести Пастернак чрезвычайно жестко написал (конечно, для тех, кто способен это услышать) об убийстве царской семьи. Что-то похожее, кстати, мы замечаем и в прозаическом предисловии к «Возмездию» Блока — не поверхностные ритмы «музыки революции», как в поэме «Двенадцать», а наоборот, очень, как бы сказали тогда, «реакционные» идеи в духе Константина Леонтьева и других славянофильски настроенных мыслителей. Здесь и кроется точка расхождения Маяковского и Пастернака.
АМ Говоря о Маяковском и Пастернаке, невозможно не вспомнить о Мандельштаме. С каким поэтическим и политическим опытом вошел он в 1921—1922 годы?
ЛК С богатым дореволюционным и ранним революционным опытом двух «Камней» 1913 и 1916 годов — первой и знаковой книги, навсегда оставшейся в истории русской поэзии. И с книгой «Tristia», изданной, казалось бы, со всей возможной для того времени помпой и соответствующим качеством оформления книги работы Мстислава Добужинского. Между тем, Мандельштаму это все не понравилось, и через год у него вышла другая, «Вторая книга» — считается, что название ее было предложено Михаилом Кузминым. «Вторая книга» вышла в издательстве «КРУГ» 1923 году с замечательной маркой Москва-Петербург и на сей раз с рисунками Анненкова.
Но автор и ею остался недоволен: ««Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков. О. Мандельштам. 5/II/23».
С поэтическим опытом, кажется, все ясно, а вот с политическим — куда сложнее. Мы, читая, действительно великие и давно ставшие классическими стихи, кажется, никак не способны соотнести их с той политической реальностью, которую эти стихи отразили. Ведь дат под стихами, как сегодня в академических собраниях, не ставили. И читатель не обязан знать, что «Эта ночь непоправима, а у нас еще светло…» — это 1916 год, когда умерла мать поэта. Как не должен знать и то, что на похороны матери поэт опоздал, возвращаясь из Крыма, где «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и т. д. Однако вот начальные стихи знаменитого «Зверинца» о Первой мировой войне:
Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять,
Поют косматые свирели.
Своей концовкой эти стихи недвусмысленно включались в острый политический контекст не года написания «Зверинца», а года выхода книги — 1922-го:
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.
Эти стихи неизбежно напоминали не только о том, что мировая война так или иначе закончилась в 1918 году, а Гражданская война в России — к 1921 году. Не мог поэт не знать и не чувствовать, что «полноводная Волга» именно в момент выхода книги стала ареной зверского и убийственного голода, случившегося в 1921 году.
Кстати, Борис Пастернак, издавая свою великую «Сестру мою жизнь» (о 1917 годе) в 1922 году, похоже, не заметил, что ее жизнерадостность в то время была уже неуместна. Заметил это поэт-заумник, футурист и член редколлегии «ЛЕФа» Алексей Крученых, откликнувшийся на книгу друга и многолетнего собеседника сборником «Голодняк».
АМ Сегодня мы располагаем новыми сведениями о Мандельштаме, которые разрушают долгое время существовавший образ поэта-небожителя, чуть ли не юродивого. На самом деле Осип Эмильевич был достаточно активно вовлечен в события тех лет, не так ли?
ЛК Осип Мандельштам участвовал и в переезде ленинского правительства в Москву, и в советской культурной жизни Киева (как представитель столичного харьковского Наркомпроса Украины), бежал в Крым от белых, оказался в Батуме в Грузии, побывал после крымской еще и в грузинской меньшевистской тюрьме, участвовал вместе с Эренбургом в вывозе документов белых правительств из Тифлиса, попадал под обстрелы и т. д. Плюс к этому всему, конечно, имела место быть недолгая первая встреча и вспыхнувшая любовь к Надежде Хазиной, отразившаяся в знаменитых стихах «Вернись в смесительное лоно…».
Мандельштам еще не прочитан в этом специфическом контексте. Но это наша проблема. Он жил в то время так, как не всем и не всегда сегодня хотелось бы. И мало кто хочет всерьез во всем этом разбираться. Но нам следует задуматься: чего здесь будет больше — обретений или потерь? Это выбор каждого читателя, и как мы уже видели в случае с Пастернаком, писателя тоже.
АМ Возвращаясь к Пастернаку, а насколько он был человеком «не от мира сего»?
ЛК Трудно сказать, по всей вероятности, игра в такого человека была ему присуща еще задолго до того, как он стал осмеиваемым официозом дачником поселка Переделкино. Но позвольте еще раз вернуться к теме Пастернака и Маяковского.
В первые годы революции в Петрограде существовала «Вольная философская ассоциация» во главе с довольно странным триумвиратом — народником Разумником Ивановым-Разумником, символистом Андреем Белым и тогда уже крупным философом-неокантианцем Аароном Штейнбергом.
Так вот, среди обсуждений на полутора десятках заседаний, посвященных сорокалетию со дня смерти Федора Достоевского, а также споров о формальном методе с участием Виктора Шкловского, выступлений Казимира Малевича и вечеров памяти Александра Блока, мелькнуло и имя Владимира Маяковского.
Обсуждали вольфильцы проблему европейского человека, душу которого заменил пиджак, включали все это в контексты философии Константина Леонтьева, но в качестве русского современного пиджака участники дискуссии не нашли ничего лучшего, как выбрать «желтую кофту» Владимира Владимировича Маяковского.
Дело в том, что время языка, на котором раньше можно было спорить о текстах Маяковского, просто прекратило существование в новом СССР. Напомним, что эта аббревиатура появилась в декабре 1922 года. Чем не перелом!
Так вот, не мог Пастернак не чувствовать всего этого, не был Маяковский для него «никаким, несуществующим». И что-то неуловимое от Маяковского есть даже в образе Юрия Живаго — конечно, наряду с самим Пастернаком, что нам тоже следует учитывать. К 1950-м годам Пастернак уже очень не любил 1920-е годы. Настолько, что стал ему ненавистен даже последний уголок старой интеллигенции, которая не уехала на пароходах: «Доктор Живаго» заканчивается почти издевательствами над Академией художественных наук, которой руководили марксист Петр Семенович Коган (тот самый, который у Маяковского «разбегался щетками усов») и профессор Густав Густавович Шпет.
АМ А что это за Академия, о ней много говорят в последнее время?
ЛК Здесь стоит вернуться на шаг назад. ГАХН, или первоначально, до 1925 года, РАХН (Российская академия художественных наук) образовалась из московского аналога Вольной академии духовной культуры, в которую входили Густав Шпет, Николай Бердяев и весь цвет московской мысли.
Так вот, перед отъездом в Берлин Андрей Белый захотел объединить свою Вольфилу и Вольную академию. Ничего из этого не получилось: для сторонника строгой «научной» философии, феноменолога Густава Шпета Андрей Белый был представителем бесформенной «восточной мысли». Всех рекомендованных Белым докладчиков, в частности, о Достоевском — и Якова Голосовкера (автора знаменитой потом книги «Достоевский и Кант»), и Исаака Штейнберга (брата Арона Штейнберга), кстати, министра юстиции в самом первом ленинском правительстве, и Матвея Кагана, философа-неокантианца, человека из круга Бахтина, Шпет отверг.
Однако, отказавшись уезжать с «пароходовцами», Густав Шпет стал очень важной фигурой в первые советские годы, начиная как раз с 1921 и до 1929−30 годов, когда ГАХН был закрыт. Кого там только не было, и о. Павел Флоренский, и проф. Александр Габричевский, и художник Василий Кандинский, и философ Алексей Лосев — перечислить всех невозможно. Так ведь и без Маяковского не обошлось. Когда он в полемическом задоре, обращаясь к пролетарским поэтам, написал «я кажусь вам академиком с большим задом», он уже был членом ГАХНа по отделению рабочих клубов. Кажется, смешно, но ведь и знаменитый «Рабочий клуб» Александра Родченко был тогда не анахронизмом, а мировой сенсацией.
АМ Все это знал Пастернак и отчасти об этом писал в финале «Доктора Живаго»?
ЛК Ко времени смерти Юрия Живаго в 1929 году, ушедший, похоже, совсем в другое время-пространство Пастернак предпочел «сбросить с парохода современности» нет только Маяковского, но и своих друзей по ГАХНу. Наиболее заметно это стало по черновикам романа «Доктор Живаго», опубликованным в 11-томном собрании сочинений, где появились отрывки, явно отзывающиеся на не опубликованные до недавних пор выступления Шпета, погибшего в итоге в сталинской ссылке. Это грустно, но сказать об этом стоит, ведь совсем недавно была переиздана замечательная книга мемуаров композитора Николая Каретникова, где он вспомнил о первой реакции близкого Пастернаку Александра Габричевского на роман — реакцию, которую лучше не пересказывать.
АМ Давайте подведем итог нашей беседы…
ЛК Мы говорим о времени перелома. А перелом безболезненным никогда не бывает, и время срастания подобных исторических увечий определяется большой Историей, а не нами грешными.
АМ Из писателей, чьи имена звучали в нашей беседе, кого бы вы посоветовали прочесть друзьям «Лабиринта» и какие именно произведения?
ЛК Мандельштама и Пастернака, соответственно, «Tristia» и «Сестра моя жизнь». Ну, и поэму Блока «Возмездие», которая писалась как раз в это время.
|
Частные издательства: большой вопрос для Госиздата, а для писателей — хлеб
|
Афанасий Мамедов Хотел поинтересоваться, а вообще читали ли люди в 1921 году или не до того им было — голод, знаете ли, Кронштадтское восстание?
Давид Фельдман Прежде, чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать пару слов о НЭПе, поскольку тут все взаимосвязано. Благодаря новой экономической политике была отменена продразверстка. Что такое продразверстка? Это когда у крестьян изымалось все продовольствие. А это означало, что на территориях, контролируемых советским правительством, царствовал страшный голод. И тут вдруг торговлю разрешили. То есть крестьянин мог, уплатив продовольственный налог, продавать излишки, о которых в период военного коммунизма просто не могло быть и речи. Как только крестьянам разрешили торговать, голод не сразу, но начал отступать.
АМ А до этого, как я понимаю, торговля была запрещена законодательно?
ДФ Совершенно верно. Сразу же после этого возник вопрос, а что еще было бы хорошо разрешить? Начали поднимать промышленность, поскольку она была разрушена практически до основания — не только событиями войны, но еще и тем, что большевистские организаторы не имели никакого опыта в этой сфере. И вот теперь я могу ответить на ваш вопрос: да, в те времена люди читали, несмотря ни на что. И добавил бы — читали жадно. Спрос на книги намного превышал предложение. Государственные издательства, тресты и концерны, объединявшие типографии, издательские организации, не справлялись со своими задачами. Книги были невероятным дефицитом. Серьезные изменения в издательском деле стали возможны только к 1922 году, а в 1921 их просто и быть-то не могло. Все сдвинул с места НЭП.
АМ В 1919 году по инициативе Луначарского для руководства всей издательской деятельностью в новой РСФСР создали Госиздат. Но уже в 1921 году начали появляться и частные издательства. Причем, насколько я знаю, с такой частотой и активностью, что нередко, имея высоких покровителей, они даже перекрывали дорогу государственным издательствам. С чем это было связано, тоже с НЭПом, о котором вы только что говорили?
ДФ Мы знаем — политикой советского правительства было искоренение любых форм несогласия, поэтому нет ничего удивительного в том, что власть, с каждым днем набирающая силы, устанавливала контроль над издательской деятельностью. Стремительно закрывались одни газеты, журналы, частные издательства и открывались другие — лояльные новой власти, держащиеся формально в пределах законности.
АМ А если не держались, то все было жестко?
ДФ На этот случай существовал революционный трибунал по делам печати. Все было настолько жестко, что в какой-то момент в Петрограде частных издательств осталось буквально единицы, да и те существовали только потому, что Госиздат не справлялся со своими задачами. Наиболее оперативные задачи все равно приходилось поручать частным издательствам, и понятно почему — нужна была бумага, а ее не было, потому что все бумажные фабрики были национализированы. Помимо сложностей с бумагой были сложности и со станками, они, знаете ли, имеют свойства выходить из строя. К тому же, рабочие в печатном деле — народ по большей части квалифицированный, если с ним не церемониться, некому будет Ленина с Троцким печатать. Поэтому начали договариваться с рабочими-печатниками, а как договариваться, если расценки нищенские, а платить выше общих расценок — государственное преступление? Вот тогда-то и стали обращаться к частникам. Они, поскольку живут за счет прибыли, можете не сомневаться, и бумагу найдут, и станки, и высококлассных рабочих… Без частных издательств ничего не получалось.
АМ Но для Госиздата частники — это ведь ненужные и сильные конкуренты…
ДФ Безусловно, и Ленина сильно пугало их количество. Уже к 1922 году по этой теме разгорелась отчаянная дискуссия, основанной аргументацией которой было то, что именно частники дают писателям возможность не сотрудничать с правительством, избегать его, и многие деятели в этой связи требовали буквально искоренить частника. А как его искоренишь, если уже начался НЭП? Кстати, вы знаете, что сначала НЭП назывался НЭПО, это уже потом аббревиатуре придали мужественные черты. Так или иначе, но частные издательства стали открываться, правда, с довольно большими проблемами. Взять хотя бы то же отсутствие бумаги, станков… Цензура, еще с самого начала возложенная на Народный комиссариат по делам просвещения — Наркомпрос, работала слабо, неэффективно, решение любого вопроса, грозило закрытием частного издательства. Так что можно сказать, частные издательства стали больным вопросом для Госиздата, а для писателей — их хлебом. У пишущих появилась возможность заработка. Естественно, что они стремились сотрудничать именно с частными издательствами.
АМ К 1921 году большевики уже определились со своим отношением к литературному творчеству?
ДФ Отношение советского правительства к литературе вообще и к советской литературе в частности было чрезвычайно сложным. Этот вопрос Ленин взялся решать вместе с Троцким. Как вы знаете, Троцкого вообще вызывали исключительно тогда, когда-либо не было вообще никакого варианта, либо был один-единственный — вот тогда вспоминали о Троцком. Ленин к тому времени уже был тяжело болен. Началось соперничество между группировками партийной элиты и Троцким. Зиновьев и Каменев, два наиболее популярных партийных функционера, заключили союз со Сталиным. Каждый из них по отдельности не был столь влиятелен, как Троцкий, но вместе они представляли силу, и их задачей было всячески мешать Троцкому, дискредитировать его идею.
АМ А что за бои разгорелись в то время вокруг фигуры ставленника Троцкого, революционера, писателя и литературного критика Александра Воронского?
ДФ Воронский, которому, кстати, Сергей Есенин посвятил свою «Анну Снегину», оказался объектом критики не сам по себе, а именно в качестве креатуры Троцкого. Он ратовал за объединение писателей (конечно, во главе с коммунистами) для совместной творческой работы, за преемственность в литературе, за отражение жизни во всех ее составляющих, а не только жизни пролетариата, за коллегиальность в противоположность «комчванству».
АМ Троцкий ведь и сам много писал и чувствовал себя литератором?
ДФ Несомненно. К примеру, Троцкий написал цикл статей, а затем и книгу (она вышла сразу первым и вторым изданием и была восторженно принята), которая называлась «Литература и революция». В ней он высказал свои основные мысли о литературно-художественном процессе.
АМ Именно в этой книге, как помнится, он, в частности, назвал писателем-попутчиком Сергея Есенина.
ДФ Троцкий вообще предложил идею классифицировать писателей — советских писателей, конечно. Разумеется, писатели зарубежья его не интересовали, поскольку он считал их отрезанным ломтем и всерьез не воспринимал. Троцкий предложил несколько групп писателей, что было связано с только что отшумевшей полемикой вокруг Пролеткульта.
АМ Споры о Пролеткульте имели место в 1921 году?
ДФ В 1920—1921 годах. Дело в том, что в соответствии с положениями марксизма, с изменением базиса, то есть экономической структуры общества, должна и измениться его надстройка — культура. Если власть теперь принадлежит пролетариату, то и культура может и должна стать другой. Не такой, как в буржуазном обществе. Соответственно в верхах начинает муссироваться понятие «пролетарской культуры». И буквально с февраля 1917 года при заводах и фабриках, то есть при финансировавших государством организациях, начинают создаваться ячейки пролетарской культуры, лидером которых был Александр Александрович Богданов. Это он разрабатывал концепцию Пролеткульта.
АМ Смысл концепции был исключительно просветительский?
ДФ Да, но уже к 1920 году численность участников Пролеткульта была соизмерима с численностью партии. Это обстоятельство сильно встревожило Ленина, который считал Александра Богданова своим соперником. Тогда-то Ленин и поручает Троцкому вступить в полемику с установками Пролеткульта. Отношение к литературе у пролеткультовцев было совершенно нигилистическим. Троцкий не замедлил выступить со своей концепцией, основной посыл которой заключался в том, что пролетарской культуры не бывает, ее не было раньше — потому как пролетариат не был у власти, ее нет сейчас — потому что пролетариат находится у власти совсем недолго, и ее не будет в будущем — потому как вскоре начнется мировая революция, и культура станет всечеловеческой. Из этого положения вытекало, что задача Пролеткульта — просветительская, к области литературы она отношения не имеет.
АМ А как же руководящая роль партии?
ДФ Троцкий придумал концепцию соревнования и постулировал, что у партии нет задачи руководить литературой, но только лишь помогать и направлять. Критерий успешности — признание советской власти. Никакая группировка литераторов не может претендовать на доминирование. Однако в противовес Троцкому Бухарин, Зиновьев и Каменев создали другой проект. Это был проект пролетарской литературы. И в 1923 году было завершено его организационное оформление в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП). В нее вошли те, кто раньше были в Пролеткульте и переформатировались: приняли новую программу, смысл которой заключался в том, что пролетарская культура — это не культура, создаваемая пролетариатом, но культура, выражающая его идеологию. Понятно, что решать, кто выражает эту самую идеологию, а кто нет, было поручено партийному руководству. Так что Троцкий был опять риторически обойден товарищами по партии.
АМ А какова была предложенная им классификация советских писателей?
ДФ Троцкий предложил поделить писателей на несоветских, то есть не реагирующих на политические изменения, и тех, кто стремился к сотрудничеству с Советской властью или, по крайней мере, не пытался уклониться от такого сотрудничества — таких писателей стали называть «попутчиками». Естественно, термин «попутчики» встал в оппозицию к термину «пролетарские писатели». Деление это было отнюдь не безобидное, потому что стоял вопрос о деньгах.
АМ То есть о том, кто будет получать деньги от государства?
ДФ Конечно. Если мы посмотрим на литературный процесс сверху, как на некий лабиринт, то найдем в нем основные компоненты: автор, который создает книгу, издатель, который книгу издает и хочет получить от нее прибыль, и розничный покупатель —арбитр всего этого процесса, голосующий рублем. Пока эта схема работала в Российской империи, цензура ничего не могла с нею поделать. То есть цензор мог запретить, но не мог предписать. И правительству приходилось договариваться с писателями и издателями. Были удачные проекты, были и неудачные. Но в целом, конечно, выигрывали оппозиционеры. Розничный покупатель был их. Правительство не могло объявить, что лучшие писатели такие-то и такие-то.
АМ И как решили эту проблему большевики?
ДФ Начиная с осени 1917 года объединили в единую структуру издателя, цензора и оптового покупателя. И у писателя просто не осталось выбора: либо он сотрудничает с правительством, либо меняет профессию. Только начало НЭПа дало писателю возможность избежать сотрудничества с властями.
АМ Давайте поговорим о манифестах самого начала 20-х годов, они ведь были не менее важны, чем манифесты литературных направлений предреволюционной поры.
ДФ Манифесты досоветских литературных сообществ — футуристов или акмеистов —были адресованы розничному покупателю. В каждом таком манифесте есть уникальное торговое предложение, объясняющее, почему следует покупать Валерия Брюсова, а не Александра Пушкина. Как правило — это ссылка на элитарность. А вот манифесты советской поры, тех же футуристов или имажинистов, ЛЕФа, пролетарских писателей, конструктивистов, были адресованы в первую очередь правительству. Каждый манифест объяснял, почему данное литературное сообщество имеет ценность для власть держащих. Эти принципиальные изменения были обусловлены существенной перестройкой издательской модели. Однако НЭП сделал свое дело, и к частникам начали приходить те писатели, которых на тот момент читали.
АМ И это был принцип Троцкого?
ДФ Конечно. Но поскольку в литературе нет никаких сертификатов, возникал вопрос: кто писатель? Ответ — тот, кого покупают. А покупали, точнее сказать раскупали — книги издательства «Круг». Дело в том, что Воронский создает в 1922 году свою — артель писателей «Круг» и одноименное издательство. Это были писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Красная новь».
АМ Все даровитые писатели, естественно, стремились попасть к Воронскому, в его знаменитую артель, надеясь на деньги, славу и почет. А не даровитые?
ДФ Люто завидовали «круговцам» и плели страшные интриги против Воронского. В 1920-е годы он развереул острую полемику о будущем советского искусства. Это был удобный случай. С ним и его детищем начинается открытая борьба, позднее был даже растиражирован такой лозунг: «Воронщину необходимо уничтожить».
Но он пока держится и чуть позже создает еще и писательское объединение «Перевал» — потому что нужны были высокопрофессиональные критики, чтобы останавливать азартных представителей РАППа. Подобными проектами занимался не один только Воронский, одной из таких ярких фигур был бывший акмеист Владимир Нарбут. Нарбут показывал всем, что можно выпускать книги, которые покупают, и в то же время не ссориться с рапповцами. Это, как бы сейчас сказали, был такой «серединный проект».
И тут важно не забывать специфику советского уголовного права. Учитывать, к примеру, тот факт, что в 1922 году был принят первый Уголовный кодекс PСФСР, где было дано определение контрреволюционного преступления. Им считалось всякое действие или даже бездействие, которое использовалось или могло быть использовано против страны. Так что, как вы понимаете, каждое обвинение Воронскому и писателям, печатавшимся в «Красной нови», по сути своей было экспертным заключением, которое в любой момент могло привести к аресту, со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями. Поэтому, как я уже говорил выше, писатели были вынуждены выбирать. Идешь к Воронскому — там, конечно, деньги и известность (в первой половине двадцатых годов Воронский все еще одна из ключевых фигур литературного процесса), а идешь в издательство «Молодая гвардия» — денег уже поменьше, славы и почета тоже придется подождать, зато живешь намного спокойнее.
АМ Выходит, «Круг» был тогда привилегированным издательством?
ДФ Пока привилегированное положение занимал Воронский. К «Кругу» причислялись авторы самых разных направлений и поколений: Брюсов, Асеев, Городецкий, Горький, Есенин, Мариенгоф, Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Михаил Зощенко, Мариэтта Шагинян и много кто еще.
АМ Я где-то читал, что Бухарин тоже симпатизировал «Кругу» и Воронскому больше, нежели всем остальным.
ДФ И это понятно — безупречная в политическом смысле продукция пролетарских писателей была непродаваемой. А в то время важным критерием была окупаемость, так называемый хозрасчет. Поэтому «Красная новь» — окупаемый журнал, а «Молодая гвардия» — не очень.
АМ Но к тому времени начали появляться и другие толстые журналы…
ДФ Да, конечно, «Новый мир», например, «Книга и революция»… Так что у Воронского возникли довольно серьезные конкуренты. Но главная борьба с ним осуществлялась сверху…
АМ И все же кто такие были «писатели-попутчики»?
ДФ Проще и доходчивей просто назвать имена некоторых из них, и вы все поймете. Классик советской литература Маяковский — «попутчик», Пастернак — «попутчик», Алексей Толстой, когда он вернулся из эмиграции, безусловно «попутчик»; Бабель — тоже «попутчик». А вот писатели — не «попутчики» были, в основном, из рапповцев: Фадеев, чье значение в литературе было сильно преувеличено, Фурманов, Серафимович, который как писатель начинал еще до Октябрьской революции. Так что писателей — не «попутчиков», о которых мы бы сегодня могли бы говорить с интересом, практически нет.
АМ Хорошо, а какие-то критерии классификации существовали — литературные, общественные…
ДФ Такие критерии отсутствовали. Важным было лишь единое мнение критиков Российской ассоциации пролетарских писателей и/или высших идеологических органов.
АМ Когда советский писатель был полностью взят под контроль?
ДФ Полностью — когда были ликвидированы все более или менее независимые издательские организации. Об этом, кстати, писал Евгений Замятин в своей знаменитой статье «Я боюсь», где он заявил: боюсь, что будущее русской литературы — это ее прошлое.
АМ Отмечу, что год выхода этой статьи символичен —1921-й…
ДФ Речь в ней шла о том, что, пока у писателя нет возможности быть независимым от правительства, искренность в творчестве невозможна. В досоветский период писатель мог выбирать: сотрудничать с властью или нет, а вот в советский, особенно к 1932 году, когда было принято постановление о роспуске РАППА и взят курс на создание единого писательского союза, выбора у писателя, оставшегося в СССР, уже не было. Мандельштам писал в «Четвертой прозе»: всю литературу я делю на разрешенную и написанную без разрешения. Начиная с 30-х годов вся литература — только та, что разрешена сверху. Хочешь быть писателем — спрашивай разрешения.
АМ И заключительный вопрос: с какими писателями той поры и какими произведениями вы бы посоветовали познакомиться читателям «Лабиринта»?
ДФ Я думаю, что все, что считается классикой, они и без меня знают. А что касается тех произведений, которые оказались не столь широко известными, это, конечно, советский писатель и драматург, философ, историк и теоретик театра Сигизмунд Доминикович Кржижановский. Он великий писатель и наш прозеванный гений.
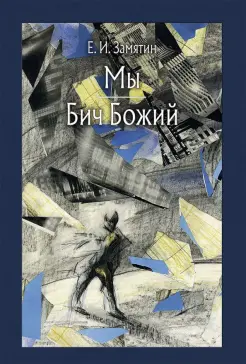
Похожие подборки
-
Позвонить -
СообщенияУ вас пока нет сообщений! -
Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -
0
ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -
0
КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас
Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.
Не знаете, что почитать?
- Доставка и оплата
- Сертификаты
- Рейтинги
- Новинки
- Скидки
-
+7 499 920-95-25
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
- Контакты
- Поддержка
- Главное 2026
- Все книги
- Билингвы
- Книги для детей
- Комиксы, Манга, Артбуки
- Молодежная литература
-
Нехудожественная литература
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»
- Все книги жанра
- Бизнес. Экономика
- Государство и право. Юриспруденция
- Домашние ремесла. Рукоделие
- Домоводство
- Естественные науки
- Информационные технологии
- История. Исторические науки
- Книги для родителей
- Коллекционирование
- Красота. Этикет
- Кулинария
- Культура. Искусство
- Медицина и здоровье
- Охота. Рыбалка. Собирательство
- Психология
- Публицистика
- Развлечения. Праздники
- Растениеводство
- Ремонт. Строительство. Интерьер
- Секс. Камасутра
- Технические науки
- Туризм. Путеводители. Транспорт
- Универсальные энциклопедии
- Уход за животными
- Филологические науки
- Философские науки. Социология
- Фитнес. Спорт. Самооборона
- Эзотерика. Парапсихология
- Периодические издания
- Религия
-
Учебная, методическая литература и словари
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»
- Все книги жанра
- Вспомогательные материалы для студентов
- Демонстрационные материалы
- Дополнительное образование для детей
- Дошкольное обучение
- Иностранные языки: грамматика и учебники
- Книги для школы
- Педагогика
- Подготовка в вуз
- Пособия для детей с ограниченными возможностями
- Словари и разговорники
- Художественная литература
- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии
- Все книги на иностранном языке
- Книги на английском языке
- Книги на других языках
- Книги на испанском языке
- Книги на итальянском языке
- Книги на китайском языке
-
Книги на немецком языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на немецком языке
- Классическая литература на немецком языке
- Курсы изучения языка
- Литература на немецком языке для детей
- Нехудожественная литература на немецком языке
- Современная литература на немецком языке
-
Книги на французском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на французском языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на французском языке
- Графические романы на французском языке
- Классическая литература на французском языке
- Курсы изучения языка
- Литература на французском языке для детей
- Нехудожественная литература на французском языке
- Современная литература на французском языке
- Комиксы и манга на иностранных языках
- Все игрушки
-
Детское творчество
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Детское творчество»
- Все товары раздела
- Алмазные мозаики
- Витражная роспись
- Гравюры
- Другие виды творчества
- Конструирование из бумаги и другого материала
- Лепка
- Наборы для рукоделия
- Наклейки детские
- Панч-дыроколы фигурные
- Работаем с воском, гелем, мылом
- Работаем с гипсом
- Работаем с деревом
- Скрапбук
- Сопутствующие товары для детского творчества
- Творческие наборы для раскрашивания
- Фрески
-
Игры и Игрушки
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»
- Все товары раздела
- Все для праздника
- Головоломки
- Детские сувениры
- Детские часы
- Другие виды игрушек
- Игрушка-антистресс
- Игрушки для самых маленьких
- Игры для активного отдыха
- Игры с мишенью
- Книжки-игрушки
- Конструкторы
- Куклы и аксессуары для кукол
- Кукольный театр
- Магнитные буквы, цифры, игры
- Машинки и Транспорт
- Мягкие игрушки
- Наборы для тематических игр
- Настольные игры
- Научные игры для детей
- Пазлы
- Роботы и трансформеры
- Ростомеры
- Сборные модели
- Слаймы
- Фигурки
- Электронные игры
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все канцтовары
-
Аксессуары для книг
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»
- Все товары раздела
- Закладки для книг
- Глобусы
-
Обложки для документов
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Обложки для документов»
- Все товары раздела
- Другие обложки
- Конверты для путешествий
- Обложки для автодокументов
- Обложки для зачетных книжек
- Обложки для паспортов
- Обложки для пенсионных удостоверений
- Обложки для проездных билетов
- Обложки для студенческих билетов
- Чехлы для карт, обложки для пропусков
- Офисная канцелярия
- Папки, скоросшиватели, разделители
-
Письменные принадлежности
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»
- Все товары раздела
- Карандаши черногрифельные
- Ручки
- Принадлежности для черчения
-
Рисование
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Рисование»
- Все товары раздела
- Аксессуары для рисования
- Инструменты и материалы для каллиграфии
- Карандаши цветные
- Кисти
- Краски
- Линеры для творчества
- Мелки
- Наборы для рисования
- Палитры, стаканы-непроливайки
- Папки для чертежей и рисунков
- Пастель
- Тушь, перья
- Уголь художественный
- Фломастеры
- Холсты. Мольберты
- Сумки
-
Товары для школы
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Товары для школы»
- Все товары раздела
- Веера, счетный материал, счетные палочки
- Другие виды школьной канцелярии
- Канцелярские наборы
- Косметички, кошельки
- Ластики
- Мешки для обуви
- Ножницы школьные
- Обложки для тетрадей и книг
- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда
- Пеналы
- Пластилин
- Подставки для книг
- Рюкзаки, портфели
- Точилки
- Фартуки. Клеенки для уроков труда
- Школьная бумажно-беловая продукция
- Школьные наборы, подставки, органайзеры
- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии
- Все CD/DVD
-
Аудио
- Назад в «CD/DVD»
- Все товары в разделе «Аудио»
- Все товары раздела
- Аудиокниги
- Музыка
- Религия
- Видео
- Софт
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все сувениры
- Календари
-
Сувенирная продукция
- Назад в «Сувениры»
- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»
- Все товары раздела
- Альбомы, рамки для фотографий
- Воздушные шары
- Детские сувениры
- Значки и медали
- Конверты для денег
- Магниты
- Новогодние сувениры
- Открытки
- Пакеты подарочные
- Подарочная упаковка
- Подарочные сертификаты
- Постеры и наклейки
- Праздничные аксессуары
- Таблички и статусы для рабочего стола
- Шкатулки
- Другое
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Весь клуб
- Журнал
-
Скидки и подарки
- Назад в «Клуб»
- Акции
- Бонус за рецензию
-
Только у нас
- Назад в «Клуб»
- Главные книги
- Подарочные сертификаты
- Эксклюзивы
- Предзаказы
-
Развлечения
- Назад в «Клуб»
- Литтесты
- Конкурсы
- Дома с детьми
-
Лабиринт — всем
- Назад в «Клуб»
- Партнерство
-
Приложения Лабиринта
- Назад в «Клуб»
- Apple App Store
- Google Play
- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.