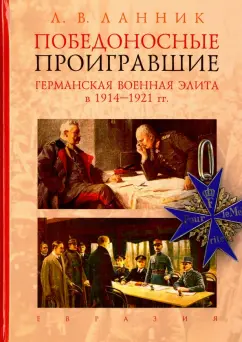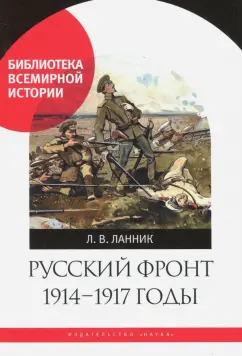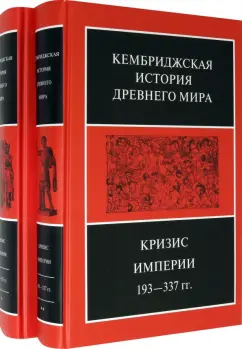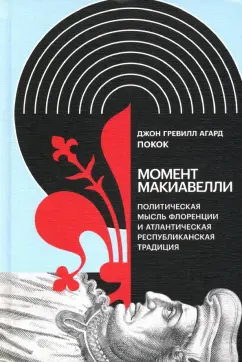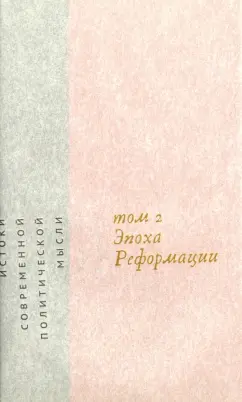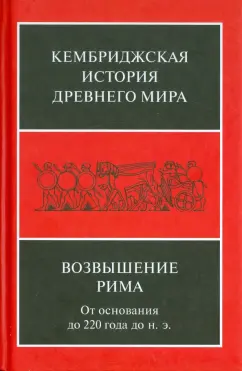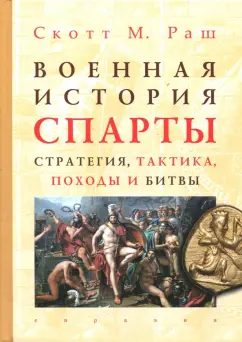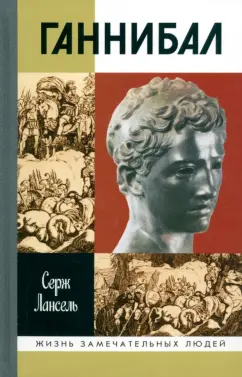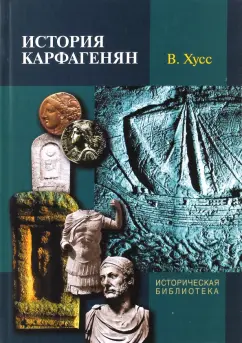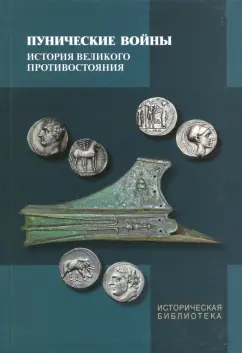| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |
| Армия Наполеона | +26 |
| Как сражался Карфаген | +22 |
| Битва двух империй. 1805-1812 | +16 |
| Военная история Спарты. Стратегия, тактика, походы и битвы, 550-362 гг. до н. э. | +16 |
| Загадка XIV века | +15 |
К этой книге автор шел давно. Сначала Л. В. Ланник перевел и познакомил широкую публику со скандальной книгой Фрица Фишера “Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914-1918 гг.”, затем свет увидела его специализированная монография: «Победоносные проигравшие. Германская военная элита в 1914-1921 гг.» и конспективный (но ёмкий) обзор: «Русский фронт, 1914-1917 годы». Ретроспективно, читая все эти книги по мере выхода, можно увидеть авторский замысел: как...
Переиздание, раннее издавалась в серии «Militaria Antiqua» под названием «Всадники в сверкающей броне» (2008), поэтому уже имеет определенную репутацию. Работа хорошо структурирована и является справочным подспорьем при параллельном чтении исследований бесконечных и судьбоносных войны Римской империи на Востоке. Издание выполнено первоклассно, приятно лежит в руках и стоит на полке, а картографию можно найти в других изданиях, недавно «Ладомир» для очередного (12-го) тома КИДМ «Кризис империи...
Как выглядит высокоразвитая политическая культура? Речь не об административном аппарате управления, данную технологию человеческая цивилизация оттачивать с древнейших городов-государств Междуречья, а об социальной группе вовлеченной в управление государства. Недавно (весной 2022) главный редактор Ладомира Ю. А. Михайлов чутко подметил, современные политики не составляют мемуаров и если и пытаются, то украдко и озираясь (несколько утрирую, но по-смыслу так). Перенося свой личный опыт, он...
Еще несколько страниц второго тома, откуда есть пошла западная цивилизация.
Мной уже был ранее сделан большой обзор фундаментальной работы "Кембриджской школы" - "Момент Макиавелли. Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция" (Джона Покока). Расстраиваемый двухтомник относиться к этой же школе, написан сухо и четко, и потребует кропотливой работы от читателя. Если первые части, посвященные взаимосвязи итальянской политической мысли с политической истории городов-государств, вполне доступен и интересен, то части...
Серия «Библиотека Флавиана» интересна, но идет ни шатко ни валко, давно не предоставляя читателем каких-либо новинок. При этом отдельные книги прекрасные образчики историографии, и к ним относиться работа Тесс Раджак. Она выдержала уже несколько изданий на русском, и имеет репутацию. Поэтому и кратко: знаменитый античный историк Иосиф Флавий и его труды – «Иудейская война» и «Иудейские древности», требуют мудрого проводника для путешествия, и в лице Тесс Раджак, читатель его и обрел. И...
Поражает работоспособность Юлия Берковича Циркина, за короткое время увидели свет: «В тени трона. Соратники римских императоров» (2018, сборник биографий «серых кардиналов») и двухтомная «Политическая история Римской империи» (2018-19). Каждая из указанных книг достойна внимания и обсуждения. В 2020-м воспоследовала еще одна «римская» работа – «Царский Рим в Тирренской Италии».
В «Кембриджской истории древнего мира» том VII.2 (далее КИДМ) очень осторожно и многословно делались любые выводы и...
Безальтернативная замена недоступных пока для русскоязычного читателя книг Майкла Брурса (Michael Broers. Europe Under Napoleon и Europe After Napoleon: Revolution, Reaction, and Romanticism, 1814-1848). Естественно Кареев Н. И. был политически ангажированным историком, но чтение его работ дает толчок к дальнейшим поискам.
Смолов А. В. верно подметил, что историография вопроса (советская и пост-советская) носит дипломатичный и «позитивистский» характер, следуя целям «нормализации отношений» и сглаживания любых острых вопросов. И это застарелая проблема.
Книга представляет собой сборник статей (и документов), подводящих к наиболее удачной третьей главе, как раз и рассматривающая ход и перепетии переговоров в Тарту в 1920 г. Именно в ней и далее подытоживая, автор актуализировал проблему: «Финляндия шла на...
Прежде всего, следует сказать: данное издание составлено из четырех глав, изъятых из пятого тома знаменитой “Histoire de France illustre?e depuis les origines jusqu'a la Re?volution” (выходившей под общей редакцией Эрнеста Лависса). И хотя прошло более ста лет, исследование Анри Лемонье остается актуальным, иначе почему ссылки на него встречаются до сих пор. Отмечу, что главы посвященные Итальянским войнам, сами французы сводят в отдельную книгу (Henry Lemonnier “Charles VIII, Louis XII,...
Книга по интересное теме, но автор склонен не критически воспроизводить за испанскими мемуаристами недостоверные сведения и оценки. Почему-то автору не известны исследования Вячеслава Мосунова, где мифы франкистской пропаганды получили давно заслуженную оценку (статья о Красноборской операции).
Отслеживая публикации Айрапетова О. Р. на Регнуме, уже была понятна направленность будущей книги. В рамках дискурса юбилейного года, когда целый ряд автор представили свои взаимоисключающие интерпретации, Айрапетов О. Р. пристрастен ровно в той степени, как пристрастны его политические оппоненты. Огромное число сюжетов, которые должны были рассмотрены, перегрузили текст, местами сделал его сумбурным. При этом Айрапетову О. Р. удалось донести ощущение стремительного потока, неумолимого и...
Тиберий и его режим. Удивительно, как менялось представление о нем. Тацит обвинял Тиберия в множественных смертях посредством обвинений в государственной измене (в интерпретации Гримма Э. Д. «юридических убийствах»), но сейчас его скорее винят в бездействии (sic!): «отсутствие [Тиберия] в Риме полностью развязало руки доносчикам, которые при помощи обвинений в измене сводили счеты с личными соперниками или просто обогащались» (КИДМ, X). Как Князький И. О. решил эту проблему?
«Все процессы, где...
Эпоха Хэйан и "Гэндзи моногатари" Мурасаки Сикибу для меня стали синонимами. И Айван Моррис предлагает неспешное путешествие в то легендарное время. Открывая стильно изданную книгу, (чего только стоит шероховатый форзац, как оплётка рукояти древнего клинка), ожидаешь не менее изящного содержания, и автор полностью оправдал надежды. Экскурсы в политику в разных на то проявлениях, устройство общества, религия и мистика, все ради одной цели, дать исчерпывающие пояснения для понимания...
Давным-давно, пробираясь через витиеватость знаменитой Нихон гайси (История сёгуната в Японии), борьба Ходзё и Годайго, Годайго против Такаудзи, крайне заинтриговала и заинтересовала. Но тогда, за неимением ничего достойного, пришлось ознакомиться с не менее известным (особенно среди студентов) трудом сэра Джорджа Бэйли Сэнсома "История Японии 1334-1615", и Сэнгоку Дзидай затмил на время всё. И вот теперь вышла небольшая по объему книжечка от уважаемого автора. Теперь многое из...
Интереснейшая книга, к тому же ярко написанная. Автор представляет Тридцатилетию войну, как традиционный конфликт: «причины конфликта формировались традиционной средой, нормативами и правовыми представлениями, восходившими еще к Средневековью», и далее: «целью конфликтов становилось восстановление ущемленной «чести» и «репутации», поиск компромисса, позволявшего восстановить попранный статус и соответственно репутацию всех замешанных в конфликте «чинов», и как бы подытоживая: «война не должна...
На фоне громадных залежей книг о Римской Британии на английском, работа Широковой Н. С. чуть ли не единственная на русском, тем и ценна. Дается только ранний период, пласт событий и сюжетов II-IV вв. все еще ждет русских исследователей.
Очередное революционное исследование, и Мехамадиев Е. А. так декларирует его принципы: «рассмотреть византийскую армию как совокупность региональных армий, каждая их которых обладала своими внутренними специфическими особенностями». И далее: «главная цель – определить, как создавались отдельные византийские региональные армии, как складывались их административные структуры, командный состав, различные бюрократические службы».
Исходя из этого, можно понять, что данная книга является...
Кассий Дион Коккейан, оставил противоречивый набор отзывов об императоре Адриане: исключительно милосердный, но молва приписывала ему политические убийства; приятный и обаятельный, но его "отличало неуемное честолюбие, в силу которого он ревностно предавался всевозможным занятиям, в том числе и самым малопочтенным (sic!): так, он увлекался ваянием и живописью и говорил, что ни в делах войны и мира, ни в делах, относящихся к обязанностям императора или частного человека, нет ничего, в чем...
Очередной шедевр от изд. Крига. О кровавой истории рассказать без спойлеров сложно, но все же: так получилось, что достоянием потомков стали описания мятежа Лопе де Агирре. Для мятежного XIX в., когда в буре наполеоновских войн рушились империи, а на арену стали выходит "генералы свободы" - Хосе де Сан-Мартин и Симон Боливар, то под воздействием веяний романтизма, оценка событий 1560-61 кардинально изменилась, и убийца стал героем.
Читатель сам может оказаться посреди сельвы, один...
"Последний век Республики был эпохой перемен, но ни в коем случае не упадка".
Очередной том IX том КИДМ замкнул историю Рима от основания до 69 г. Казалось бы, сколько раз перечитывались античные источники, сколько историков бралось за их интерпретацию, но притягательность сюжетов не исчезает. Прекрасный образчик западного Антиковедения.
Так получилось, что с книгой ознакомился в момент, когда на столе оказалось новейшее научное исследование Циркин Ю. Б. "История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии" (РГПУ им. А И. Герцена несказанно порадовало!) и впечатление от труда Бондаренко М. Е. получились очень противоречивыми.
Филолог-классик победил историка-античника. Возможно, я под впечатлением концепции Циркин Ю. Б. - (условно) "ранний Рим в контексте региональной истории". Но без собственного осмысления,...
На Западе считается, что "история битв" себя изжила, но в нашей историографии, наполненной публицистическими мифами и легендами, существует множество лакун. Рассматриваемая работа Нелипович С. Г. строго говоря является добротным специализированным исследованием, до революции 1917-го выходившим под шапкой "военно-исторической комиссии", поэтому обладает всеми минусами и плюсами: множество имен, дат, топонимов, номеров частей и пр., что и создает сложность восприятия материала.
Среди множества книжечек выходящих в серии "Parvus Libellus", сложно не обжечься, но на сей раз ожидания не были обмануты.
Автор честно указал, что данная монография (а это именно научное издание!), является переработанным и сокращенным и дополненным вариантом кандидатской диссертации. Поэтому, данная книга успешно дополняет знаменитую работу Яна Ле Боэка "Римская армия эпохи Ранней Империи" (РОССПЭН, 2001, могли бы и переиздать!) и Махлаюк А. В., Негин А. Е. "Римские...
Итак, если следовать традиции, то первым побегом будущей методологии "Кембриджской школы", стала «источниковедческое» исследование Питера Ласлетта "Патриарх Филмера" (1949), где автор предпринял попытку выяснить, когда именно и для чего политическая теория была написана и опубликована. Разлет между моментом написания трактата и моментом когда он был введен в широкий обиход, составил полвека, естественно смыслы закладывавшиеся изначально, в новой политической реальности...
Голос преподавателя, слышимый при чтении книги, по крайне мере для меня, "путеводная звезда" при погружении в изучаемый материал. Для многих, именно эта книга о Спарте, строго научная и сухая, стала ушатом холодной воды, и продемонстрировала, сколь трудна работа настоящего историка-античника, по крупицам, как криминалист, выискивающий истину. Об отличия от предыдущего издания, приведены стр. 13-14. Книга строго рекомендуется!
Книга, является частью (первой, "Висла в огне") ранее публиковавшейся работы "Кровавый октябрь 1914 года" (изд. Минувшее, 2013). С одной стороны, прекрасная работа, отвечающая современным требованиям, с другой, всего-лишь переиздание, без дополнений и изменений. Блок клееный.
Всем кто в раздумьях приобретать данную книгу или нет. Не брать!!!
Повертев в руках довольно дорогую книжечку, у меня сложилось мнение о Банникове А. В., как о «коммивояжере», а не историке. Имея в активе несколько текстов, он пересобирая их в разные комбинации, выдает за нечто новое. Если сравнивать книги «Как сражался Карфаген» и «Эпоха боевых слонов», то последняя сохраняет определенную ценность. «Новинка», не несет ничего нового. Основой знаний давно стали работы Декстера Хойоса и Дж....
По первым отзывам, возникли опасения, дескать под обложкой скрывается воспроизведение глав из ранее вышедшей книги о Иване III, но оказалось и так, и не так. Автор беззастенчиво воспользовался своими наработками, при этом, начал повествование с Василия I Дмитриевича, отца Василия II, тем самым введя для широкой публики, персонажа до этого малоизвестного. Мастерки показав непривлекательного отца, автор, оттенил дальнейшее жизнеописание сына. Первый, острожный и нерешительный, «перестраховщик на...
Очередной том КИДМ произвел сильнейшее впечатление. Столь обстоятельно и доскональной книги по данному временному отрезку до сих пор на русском не было. Дополнения и уточнения сделаны аккуратно и четко.
У Генри Киссинджера есть характерное замечание: «Одним из парадоксов нашего времени меморандумов и ксероксных машин, разрастающейся бюрократии и повсеместного ведения записи состоит в том, что написание истории, по-видимому, стало практически невозможно. Когда какой-то историк имеет дело с предыдущими столетиями, проблема состоит в том, чтобы найти достаточно материала того времени. Когда он пишет о современной дипломатии, проблема для него в том, чтобы не оказаться погребенным обилием...
По авторской задумке, перед читателем первый том исследования "рокового" конфликта Александра I и Наполеона, «об этом речь пойдет в следующей книге», пишет в эпилоге О. В. Соколов. Увы, продолжения не последовало.
Комплексные исследования причин и хода русской кампании в контексте наполеоновских войн, стала сейчас частой темой среди работ западных историков. И только одна (из новейших) доступна русско-язычному читателю – Доминик Ливен «Россия против Наполеона. Борьба за...
Случайно обнаружил в каталоге и заказал. Были сомнения, ведь с момента издания прошло 14 лет, но книга пришла в почти в идеале, только без "супер" обложки. Сама книга является "приложением" другой известной работы: Фурсенко А., Нафтали Т. "Безумный риск: Секретная история Кубинского ракетного кризиса 1962 г.". Как автор указывает в предисловие: «Русское издание (РОССПЭН) оказалось далеко не идеальным переводом с английского <…> Выпущенная в США и Англии книга...
«Гранитная» академическая монография. Перед тем как ознакомиться с ней, требуется уже получить основные знания об эпохе, благо есть замечательная трилогия Александра Прасола «Объединение Японии». Й. Ламерс, дает обширные и детальные комментарий к событиям, предлагая свои интерпретации. Вязкий и требовательный к читателю текст.
Врагам Рима не везет. Они стали добычей публицистов-популяризаторов, фабрикующих панегирики и филиппики, представляя эллинистических деспотов, то борцами с «римским империализмом», то «макиавелевскими» чудовищами.
Исследование Мирзоев Е. Б. о Шапуре I не имеет аналогов. Аргументировано и взвешенно, рассказано о властителе и полководце, бросившего вызов Pax Romana: "Серия побед Шапура над римскими армиями и пленение императора Валериана имели огромное значение для судеб Римского мира. В...
Открытия археологии позволяют подтвердить и опровергнуть ранее высказанные гипотезы. Зиньковская И. В. обобщает материал, доступный на момент написания. Строго научная исследование, дополняет знаменитую работу Щукина М. Б. "Готский путь (готы Рим и Черняховская культура).
По изданию: качество характерное для T8 Издательские Технологии.
Уже в прошлом году, издательство Corpus облагодетельствовали заплесневелым опусом "Горечь войны", ревизиониста Ниала Фергюсона. Из многих примечательных измышлений, обращусь лишь к одной, назначению виновника из стана соотечественников. Роль злого гения досталась сэру Эдуарду Грею, именно из-за него Британия отказалась от политики "блестящей изоляции" и влезла в дела Континента, раздала обязательства кому ни попадя, именно он лгал, интриговал, запутывал первых людей и...
Лаконичная, наиболее верная характеристика данной работы Банникова А. В. Минимальный набор знаний, как и в сопоставимых пособиях Routledge. Сомнения вызывают лишь апелляции к Парфенову В. Н. Для студентов эта книга - находка, делать реферат по Ян Ле Боэку (Римская армия эпохи Ранней Империи) или упаси по Мехамадиеву Е. А., задача намного сложнее, хотя и более продуктивная.
Достоинства и недостатки, как и у второго тома. По-немецки педантично, но и не без предвзятости в отношении к (одиозным) персонажам. Сложно объективно оценить книгу, где рассматривается Французская революция. Сколько было в XIX века замечательных литераторов, публицистов и историков. И голос Ипполита Тэна слышится и сейчас громче и четче многих, да и русская дореволюционная наука смогла не оставаться в стороне (подзабытый Любимов Н. А. "Крушение монархии во франции 1787-1790", 1893...
Не все равноценно, местами нарочито предвзято и субъективно, многое получило позднее в иностранной историографии иную интерпретацию, но сопоставимого исследования на русском нет и пока не предвидеться.
Отмечу, как Кареев Н. И. расставляет акценты для Якова I Стюарта, считая последнего совершенно неспособным: «неуклюжий и вульгарный, хотя и не лишенный остроумия, - преданный грубим удовольствиям и трусливый, что вовсе не гармонировало с его смелой болтовнею о характере той власти, какую он имел...
Историки уже давно надергали мемуары Октава Левавассёра на цитаты. И по мере развития концепции «человеческого измерения» войны, многое переосмысливалось. У Левавассёра есть чеканные места: «Не количество бойцов делает армию сильной, а её дух. Уверенность в победе ведёт к победе. Меры предосторожности, предпринятые на случай отступления, дают знать солдатам об опасении главнокомандующего и наносит ущерб их отваге и храбрости. Дух войска важнее всяких укреплений. <…> Император хорошо знал...
Обстоятельное исследование. Напоминает «интеллектуальную историю», в своем раннем изводе: рассматривая не столько политическую историю (предоставляя читателю контекст), а социальную организацию и институты, не упуская из внимания политическую теорию и философию. Хорошее пособие для рефератов и самообразования. Издание имеет шитый блок и несколько отличает размерами от последующих томов.
Триптих завершает обстоятельная биография "дурака из Овари", хитрого лиса Иэясу. Властители эпохи Сэнгоку, вышли из под пера Прасола А. Ф. настолько разными и харизматичными, и нельзя отдать предпочтения ни одному из них. Поразительная история. Как и для второй книги, в новом издании, удалена, повторявшееся в каждой книги, первая часть "Эпоха и люди".
Главным отличием от предыдущего издания, стало изъятие так досаждавшей критиков, первой части "Эпоха и люди", поэтому после короткого введения, сразу начинается основное повествование. Достойное продолжение первой книги.
Подробные и хорошо написанные биографии "варлордов": Ода Нобунаги, Тоетоми Хидэеси и Токугавы Иэясу, давно получили самую высокую оценку от читателей. Поэтому выход нового издание стал закономерным решением. Следуя девизу Литтона Стрейчи: "исключение всего лишнего и ничего существенного", Прасол А. Ф. раскрывает широкую и страшную панораму периода Сэнгоку. Множество интересных подробностей и цитат из источников, позволяют автору поиграть пресловутым...
В своей рецензии на первую книгу воспоминаний, уже было высказано мнение о восстановлении справедливости в отношении памяти Императорской армии, посредством введения новых источников.
Теперь можно будет сопоставить, каким был "внутренний мир" армии, не только по великолепному (и крайне едкому) дневнику генерала Селивачёва В. И.
Интереснейшая подборка материалов по одной военной авантюре. Дает исчерпывающую информацию, не только стратегического планирования, но и тщетных попыток полков и батальонов, исполнить заведомо невыполнимую задачу, стоически выдерживая удары противника. Печальная и трагическая история, и многое еще повториться под Ленинградом, в зиму 1941-42 гг., пока читал, складывалась именно такое жутковатое впечатление.
Когда-то давно, почти два десятилетия назад, Жмодиков А. Л. (автор великолепной книги о тактике русской армии вышедшей сначала на английском, а только потом на русском), отозвался о "новаторстве" Джона Кигана (John Keegan. The Face Of Battle, 1976), дескать, в середине XIX в. был ныне забытый полковник Ардан дю Пик, и его даже на русский переводили. Французский историк сгинул под Мецем в роковом 1870-м., а спустя сто лет, преподаватель Стенхерста – Джон Киган дерзко бросивший вызов...
У этой книги на обложке искаженное название, как «точный» вариант – «Далекое зерцало: бедственный XIV век», смысл именно в оптической эффекте и губительности пандемии Черной смерти. Автор, известная писательница, её исторические книги становились бестселлерами, но в отличие от «академических» историков, она имела широчайший круг интересов. Существует множество рецензий и откликов на предыдущее издание 2013 г., поэтому, затрону прежде всего тему авторского замысла.
Барбара Такман начинает эссе...
Исследование Носова К. С. наиболее «академичное» из доступных на русском языке. Сильной стороной книги является описание типов гладиаторов, их снаряжения и тактики боя. Иллюстративный материал представлен обстоятельно (мозаики, рельефы, фигурки), подкрепляя плотный и информативный текст, но подпорчен качеством печати. Часть ставших темно-серых иллюстраций (изначально полноцветных), пришлось продублировать на вклейке (мелованная бумага).
Замечательная рецензия spl, достаточный повод обратить внимание на многотомные мемуары Муравьева Н. Н. Умный, цепкий к деталям и резкий на оценку, офицер штаба ("квартермейстерской части"), сохранил в памяти и донес до потомков, множеством мелких деталей для бытописания кампаний 1812-1814 гг.
Ия Леонидовна была глубоким серьезным ученым, легендарным преподавателем и прекрасным человеком. Её книги давно стали настольными для студентов. При смутных очертаниях ранней Римской истории, ей удалось найти выверенные слова, четко отмерив рамки известного. Отмечу, издательство АРГАМАК-МЕДИА выпустило в сентябре 2019 г. переиздание еще одной известной работы Маяк И. Л. – «Взаимоотношения Рима и италийцев в III–II вв. до н.э. (до гракханского движения)». Их отличительная черта - при небольшом...
Интереснейшее собрание материалов о ведении торговых дел в средневековье. Жизненные примеры взаимоотношений (контрабанда, коррупция, рэкет), высвечивают тени полностью забытых дельцов и власть имущих. Актуальная, хорошо подготовленная и изданная книга!
История готов сейчас представлена тремя обстоятельными исследованиями -
Щукина М. Б. "Готский путь. Готы, Рим и Черняховская культура", Хервига Вольфрама "Готы. От истоков до середины VI века" и Зиньковской И. В. "Готланд Эрманариха: остроготы в Восточной Европе на рубеже Древности и Средневековья". Каждая из названых книг по-своему отвечает на дискуссионные вопросы, но создают твердое основание для знаний о предмете.
Особняком стоит специализированная работа по...
Три работы вошедшие в данный сборник, выдержали испытанием времени. С 60-х годов XX в. неоспоримо многое изменилось. Помпеи (и не только) преподнесла россыпь новых знаний, и к чести наших археологов, они оказались причастны к этим открытиями. Стали другими методики, и кардинально - сюжеты "истории повседневности". Только, смакование вульгарной стороны Древнего Рима, стало чрезмерно навязчивым. Сергеенко М. Е., тактично умалчивает эти аспекты, студенты как-то сами находят...
Притягательность Пунических войн, как объемного сюжета мировой истории, отразилась еще в советский период, в работах историка И. Ш. Шифмана (Кораблева) и романах А. И. Немировского. Поэтому, этим проторенным путем, решил воспользоваться специалист по средневековому Уэльсу (sic!). Некоторые критики, злословили, дескать докатились в XXI в. до трудов Шарля Роллена в переводе Тредиаковского (знаменитых в первой половине XVIII в.), где вместо современной методологии и историографии, произвольный...
Первое слово вынесенное в названии - «логика», сразу расставляет акцент. Какой может быть «логос» у насилия? Феноменальный труд Статиса Каливас, масштабное обобщающее исследование. Нелегко сразу выделить из прочитанного, наиболее яркие моменты в нескольких словах. Автор утверждает и доказывает, что нарративы большинства гражданских войн имеют тенденцию локализовать насилие в терминах эмоций макроуровня – идеологии и культуры. При этом «безумия» (нерегулярные модели насилия) имеют свою логику:...
Не знаете, что почитать?