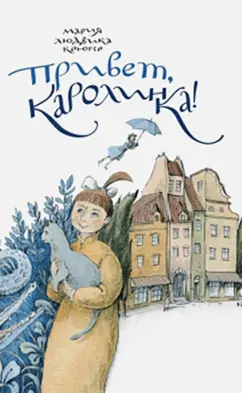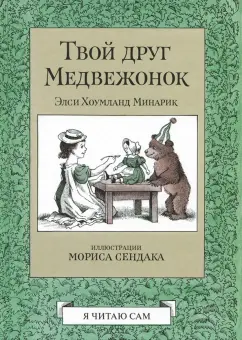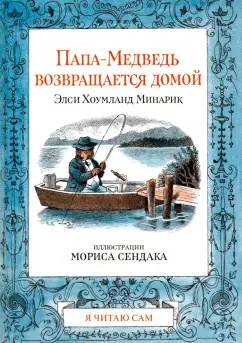| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |
| Как смотреть на картины | +15 |
| Мениньо | +4 |
| Голубая бусинка | +3 |
| Как они растут? | +3 |
| Привет, Каролинка! | +2 |
Волшебная польская повесть из социалистического прошлого с выверенной для жанра композицией, но в неожиданных декорациях: завязывается сюжет во вроде бы будничной ситуации, фоном для его развития становится ничем не примечтальный городок, а главными героями – обыкновенные дети, кульминация наступает неожиданно, а развязка – лучше не придумаешь – добро побеждает зло.
«Привет, Каролинка» Как-то в подъезде Каролинка встречается незнакомка, после ухода которой девочка замечает голубого цвета...
Волшебная польская повесть из социалистического прошлого с выверенной для жанра композицией, но в неожиданных декорациях: завязывается сюжет во вроде бы будничной ситуации, фоном для его развития становится ничем не примечтальный городок, а главными героями – обыкновенные дети, кульминация наступает неожиданно, а развязка – лучше не придумаешь – добро побеждает зло.
«Голубая бусинка» Переезд в новую квартиру оборачивается приключением: восьмилетняя Каролинка обнаружила в опустившей комнате...
«Ночь — это вор, который крадёт цвета»
Книга про одновременную и в масштабах сопоставимую сложность быть новорождённым ребёнком и новоиспечённым родителем.
В фокусе повествования – первые месяца жизни младенца, его потребности, уникальные способности, первые достижения и необычное тело, слишком мало общего имеющее с телом взрослого человека. Подстрочно — точно зафиксированное родительское ощущение растерянности, удивления, неуловимо и в то же время чрезвычайно изменившейся повседневности....
Иллюстрированным историям о приключениях маленького грызуна Бобо уже больше тридцати лет, их придумал швейцарец Остервальдер. Каждый из семи сюжетов – про дом, магазин, зоопарк, детскую площадку, купание, болезнь и День Рождения – заканчивается тем, что утомлённый насыщенными мелочами дня (для взрослого кажущимися рутиной) малыш засыпает – на руках, в коляске, в кроватке или уютно пригревшись между родителей.
«Бобо» сделан как будто диафильм: каждый сюжет получает подробную раскадровку....
Компактная энциклопедия съедобной флоры с занимательными фактами о фруктах и овощах, которые будут понятны и интересны малышам.
«Как они растут» – Манн, Иванов, Фербер перевели и издали у нас, у французского оригинала есть ещё несколько симпатичных собратьев по серии. Авторы, Ф.Гибер и К. Полон велосипеда не изобретают, а предлагают обстоятельное и в то же время лаконичное знакомство с самыми разнообразными плодами, ягодами, орехами и зеленью. По соседствуют с обычными яблоками и картошкой,...
Если очень хочется Дэвида Линча для детей, то вот вам, пожалуйста, любая книга из серии про Медвежонка, он же Little Bear в оригинале. Каждая из четырёх историй переплюнет предыдущую по степени абсурда, очень тонкого, именно такого, что в состоянии прочувствовать даже совсем малыш.
«Медвежонку холодно» – совершенно неожиданная развязка у знакомого каждому ритуала сборов на прогулку. Для кого-то они превращаются в ад, некоторые дети, наоборот, содействуют – лишь бы поскорее оказаться на...
Мудрое японское высказывание, в котором нет сюжета, а повествование сводится к описанию одновременно происходящих событий в разных точках мира.
Подступиться к объяснению своим детям мироустройства вообще непросто, а книга Ёсифуми Хасэгава – пример того, как сделать это на простых частностях. Жизни самой по себе в отрыве от миллиардов людей на планете не существует: пока ты ешь на обед свой рамэн, множество других в то же время совершают какие-то действия. ?
Слов в книге совсем немного,...
Книга «Как смотреть на картины» стоит очень качественного курса по теории и истории искусства.
Её структура повторяет построение лекционного цикла. Текст делится на тринадцать глав, в каждой из которых на конкретных и почти всегда не самых банальных примерах разбирается не какое-то определённое течение или явление, а радикально разные способы взгляда на картину. Здесь нет лично мне уже надоевшего хронологического анализа, наоборот, орнаменты багдадского Корана соседствуют с точечными...
Не знаете, что почитать?