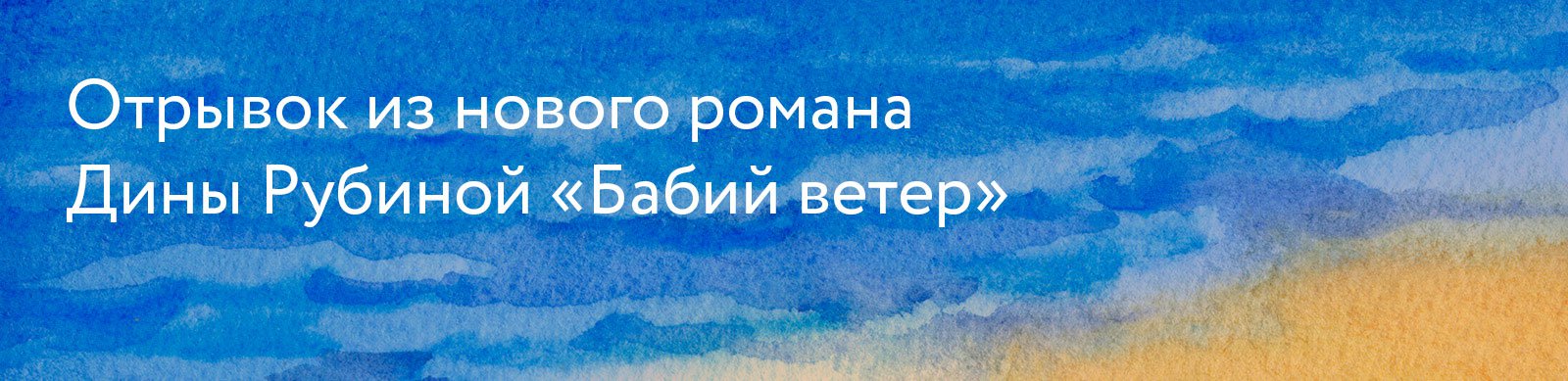| ...Базары?! В двух словах?! Какое кощунство! Нет, двумя словами тут не обойдешься. Тут мы должны вписать если не целую главу, то уж вставную главку точно. У меня аж сердце затрепыхалось: базары — это ж моя стихия! Я же — Весы: «характер легкий, ум живой, стихия — воздух». Парашюты, аэростаты, красота во всех ее видах. В том числе и базары, а как же... Я понимаю, ты встрепенулась при магических словах «коровьи копыта»? И правильно сделала, я никогда не видела их в магазинах. Они же стоили... копейки! Как и потроха, именуемые нынче «субпродуктами». Язык, печенка, сердце, пупочки, мозги, копыта, легкие, хвосты и, наконец, Его Величество ВЫМЯ! — вот оно иногда валялось грязно-бурой кучей на прилавке гастронома. Но на базаре — это было совсем другое: величественный пористый архипелаг розового коралла — о, боже, как я любила вымя, отварное вымя нежно-перламутрового цвета, упруго пружинящее на зубах! Базары? Ну что ж... Тогда — по пунктам. Самым красивым, богатым и дорогим базаром была «Бессарабка» — легендарный, как одесский Привоз, Бессарабский рынок. Первый крытый рынок, чье строительство, как говорят сейчас, спонсировал сам знаменитый Бродский, богач-меценат. Если хотелось несбыточного, шли на Бессарабку. Когда худосочным младенцам врачи прописывали кроличью печенку (дорогущую, но такую сладкую!), мамаши знали, где только и можно ее купить, и трудно было удержаться, чтобы не отъесть половину от дитячьей порции. На Бессарабке покупалось «по жмэнечке», на один прикус: один гранат, один апельсин, сто граммов кураги. А то и просто ходили пробовать, только пробовать: кислую капусту, соленые огурчики, творожок... Бабки охотно давали пробовать: глядишь, и купит, курва этакая... Подкрепишься — и в загул: в квартале от Бессарабки был любимый кинотеатр «Киев», два зала, синий и красный, и самое свежее кино. Кстати, в те патриархальные советские времена лица кавказской национальности, торговавшие на базаре хурмой, абрикосами, лимонами и мандаринами, были весьма почитаемы, им кланялись в киевских ресторанах, а гарны дивчины висли на каждом плече и выглядывали из подмышек. На Бессарабке клубилась пестрая публика. Вот тебе картинка конца семидесятых: старый еврей при медицинских весах сидит у входа в базар. Взвеситься копеек пять стоило. Мимо проходит компания белобрысых подростков лет по пятнадцать. — Ребята, берегите здоровье, проверайте вэс! — каркает старик. — С дрэком или без? — задиристо спрашивает один из пацанов. — Можно с дрэком, — спокойно парирует тот. Владимирский рынок на Красноармейской (ныне Большая Васильковская) был прибежищем среднего класса. Очень популярный базар — не музей, не святилище, как Бессарабка. Почти весь под открытым небом — правда, было это лет 30 назад, сейчас, возможно, и принакрыли. Достойный серьезный базар — и пройтись, и развлечься, и поторговаться, и цену спустить, и купить, наконец, все, что нужно. Папа, например, любил Сенной рынок — был он на Сенной площади, недалеко от Евбаза. Его еще называли Колхозным: крытый, с множеством мелких лавочек. Когда Евбаз — Еврейский базар — снесли и переименовали (стыдно сказать, в площадь Победы), вся эта мелочь-розница переползла на Сенной. А уж вокруг него растеклись-расплодились блошиные рынки, где можно было купить-продать и бога, и черта лысого, и маму родную, и старые шлепанцы, и бессмертную душу. Папа вечно приносил оттуда, по его понятиям, «антиквариат» — какое-нибудь барахло, мимо которого пройти «сердце не позволило». Сенной базар был дешевле остальных, и когда в начале 2000-х его снесли (уже не при мне), многие киевляне оплакали его, как дорогого покойника. Базарчик на Подоле я уже описывала, хотя он того и не стоит. Впрочем, и от него мне осталась память; страшноватая память. Меня там однажды перехватила и закрутила цыганка. Обычная базарная цыганка — толстенькая, с круглыми боками, вокруг которых наворочены были юбки в десять слоев. Вся закутана в какие-то бахромчатые шматы, как погорелица, замотанная в даренные кем-то старые драные шали; и несло от нее, между прочим, тоже чем-то горелым, может, затоптанным костром. Я никогда не разделяла романтических бредней по поводу всей этой публики. Равнодушна к цыганскому надрыву, не боюсь их проклятий, не верю их ворожбе. Но эта схватила меня за локоть так цепко, а физиономия ее была такая странная — тревожная и не прохиндейская, — точно узнала она что-то про меня и хочет предупредить об опасности. — Все летаешь, летаешь! — крикнула она. — А скоро за большую воду улетишь! Я остановилась, понятно. У меня внутри все оборвалось, хотя вроде ничего такого трагического она не произнесла. Я сказала: — Не, у меня пять рублей на весь базар. А она: — Да и не надо твоих рублей, я тебе за волосы твои погадаю. — За волосы?! — испугалась я, инстинктивно хватаясь за голову. Представила, как она выхватывает из-за пазухи огромные ножницы и подступается ко мне, чтобы отрезать мои роскошные кудри. Да меня Санек на порог бы не пустил! Мои волосы — это ж было его главное достояние, он с них начинал. Я отшатнулась и чуть не дала стрекача от этой ужасной тетки. Но она вцепилась в меня и забормотала быстро-быстро, не давая опомниться. Я даже и выговорить не могу всего, что она извергала, а может, за прошедшие годы память, оберегая мой рассудок, затоптала эту встречу, как отгоревший костер. К тому же, в те минуты со мной что-то странное случилось. Я вроде не слова ее слышала, а видела картины: большой самолет над бескрайней водой, красные невиданные горы, и широкую лощину с обломками корзины аэростата среди лохмотьев синего шара, к которым мчатся люди, и я — тяжелая, пузатая, — задыхаясь от странной гари, пытаюсь бежать, а ноги меня не несут. — Любовь потеряешь, кровиночку свою потеряешь, но сама, живая, — выстоишь... И жить будешь на берегу большой воды, среди голых оборотней, срам их будешь перебирать... Ничего себе — услышать такое на Подольском рынке, славным весенним утречком, забежав за двумя баночками ряженки? — Отстань от меня!!! — заорала я в ужасе, вырывая руку. — Чокнутая!!! Пошла вон! И ринулась прочь, побежала изо всех сил. Не ее испугалась, понимаешь, а тех картин, которые перед моими глазами пронеслись. Меня все это как-то... ошеломило, придавило, дыхание пресекло! Может, поэтому я, отбежав, остановилась и оглянулась на цыганку. Та стояла в толпе — одна, смотрела мне вслед, и лицо было у нее — обреченное, безнадежное... нечеловечье. И денег не взяла, и волосы мои при мне остались. Я повернулась и побежала. И все сбылось, как она сказала. Все, понимаешь ли ты, сбылось... ...Нет! Не хочу заканчивать наш раздел удовольствий и упоительной виртуальной обжираловки этим диким эпизодом. Бог с ней, с цыганкой, моим падшим горелым ангелом, которого явно послали предупредить меня и подготовить — а я все равно ни к чему готовой не оказалась. Видать, потому, что не заплатила — ни волосами, ни верой, ни пятью рублями... Бог с ней, с цыганкой. Проехали. Завершу наш раздел закусонов блюдом, которое приберегла напоследок. И это, конечно, заслуженный орденоносный, межконтинентальный салат оливье. Салат тысячелетия. Не стареет, только видоизменяется, постоянно преобразуясь соответственно климату и ландшафту. Очень гибкое блюдо, богатое многими смыслами. Вкус его зависит от достатка семьи. Его готовили и с докторской, и с бужениной, и с языком, и с говядиной, и с крабами. Особым шиком считалось зимой достать парниковые свежие огурцы и накрошить в оливье. Впоследствии оказалось, что главное — не ингредиенты, а заправка. Хороший майонез сделает вкусным любое... блюдо. Я готовлю оливье часто, его обожают у нас на работе все, даже фифы, что поклоняются всем диетам подряд. Никакого мяса и никаких свежих огурцов, только соленые. Соленый огурец — тебе это подтвердит каждый уважаемый алкоголик — делу и начало, и венец, и конец. Так что: крепенький соленый огурчик, много яиц, много моркови, пару картофелин, банка горошка... И поверх всего — торжествующая кода на крещендо: медовая горчица — соль — перец — майонез! Занавес!
О книге
|