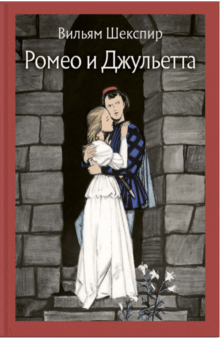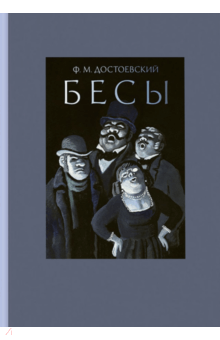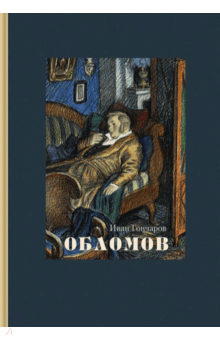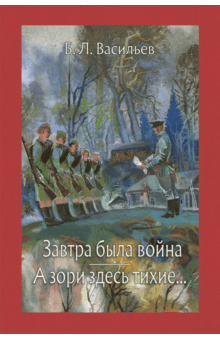Итоги конкурса эссе «Мой герой, моя героиня»
Подошел к концу необычный конкурс издательства «Речь» — «Мой героя, моя героиня», где вы, дорогие участники, рассказывали о своих коннотациях и любимых героях. Мы от всей души благодарим вас всех за участие! Вы выбирали неожиданных героев, вставали на их место в самых сложных ситуациях, и читать об этом было невероятно интересно. Издательство «Речь» выбрало трех победителей, которые получат в подарок две новинки: одну из серии «Классика Речи», другую — из серии «Малая Классика Речи».
А вот и наши победители!
Евфимия — автор двух эссе: О Джульетте и О Петре Верховенском
Отчего-то прежде я никогда не задумывалась над тем, кто мой любимый «женский» литературный персонаж. Но теперь, перебрав многих памятных книжных героинь, я пришла к выводу: это шекспировская Джульетта.
Разумеется, подобно вам, я прочла «Ромео и Джульетту» в юности, в те самые годы, когда только что вышел на киноэкран одноименный фильм Дзефирелли, а по телевизору показывали фильм-балет с незабвенной Галиной Улановой в главной роли. И с тех самых времен я помню: «…Нет судьбы печальнее на свете, чем выпала Ромео и Джульетте». В те далекие и невозвратные времена книга была редкостью и ценностью. Поэтому мне оставалось, купив открытки с репродукциями иллюстраций Д. Шмаринова к «Ромео и Джульетте» (с тех пор именно такими я представляю всех персонажей оной трагедии), мечтать о собственном томике Шекспира. Но вот как-то раз, приехав на каникулы в Москву, я купила в книжном магазине на Арбате… английское издание «Ромео и Джульетты». И что же? Оказалось, что финальная фраза в подлиннике звучит иначе. А именно: не «повесть о Ромео и Джульетте», а «повесть о Джульетте и ее Ромео». Выходит, переводчики ради рифмы перестроили фразу? В то время, как сам Шекспир отдал предпочтение Джульетте. Но почему?
Ответ на этот вопрос я нашла уже взрослой, не раз перечитав «Ромео и Джульетту». И, возможно, именно в нем разгадка другой тайны: почему до сих пор волнует наши сердца история юных влюбленных из Вероны? Мало ли было других любовных историй? Дафнис и Хлоя, Паоло и Франческа, Тристрам и Изольда, Хавбор и Сигне… Тогда почему нам ближе именно Джульетта и Ромео? А многие ли читали итальянскую новеллу «История двух юных влюбленных», откуда Шекспир заимствовал сюжет для своей бессмертной трагедии?
То-то оно, что не так все просто, как кажется на первый взгляд. И «Ромео и Джульетта» — это не просто история о верной любви до гроба. Это история о духовном взрослении человека в борьбе за право быть собой. И ярче всего Шекспир показал эту борьбу на примере Джульетты.
Единственная дочь главы одного из двух могучих враждующих семейств Вероны, она, к моменту нашего знакомства с ней, живет беззаботно, как птичка. Но не на свободе — в золотой клетке. До поры Джульетта не осознает того, что она несвободна. Как не осознает и того, что она нелюбима. Увы, подобно многим родителям, синьор и синьора Капулетти требуют от дочери лишь учтивости и покорности. Джульетта с рождения обделена родительской любовью. И для четы Капулетти она — всего лишь разменная монета в борьбе за власть в Вероне. Пожалуй, самая страшная сцена в трагедии — сцена жестокой выволочки, которую устраивают отец и мать Джульетте, впервые в жизни осмелившейся воспротивиться их воле. И после этого Джульетта не испытывает к ним ненависти, не осуждает их. Удивительно! Ведь мы, столкнувшись с пресловутой родительской тиранией, ведем себя совсем иначе…
Единственный человек в семье, который любит Джульетту — это ее кормилица. Не случайно Джульетта, перед тем, как выпить эликсир, данный братом Лоренцо и заснуть сном, подобным смерти, трепеща от страха, зовет (и это очень характерная деталь!) не маму, а нянюшку. Но для кормилицы Джульетта — всего лишь ягненочек, божия коровка, несмышленое дитятко. И только. Она привычно сюсюкает с ней, не замечая — ребенок уже вырос и мыслит по-взрослому. В связи с этим можно сказать — Джульетта одинока. Она ищет родственную душу, душу понимающую и любящую. И находит таковую в лице Ромео.
Любовь, нежданная любовь с первого взгляда, пробуждает в Джульетте личность. И несокрушимую нравственную и духовную силу, которая закаляется при встрече с очередным испытанием на право любить, на право быть собой, на право быть творцом своей судьбы. А если надо, платить за это кровью и слезами. А этих испытаний Джульетте выпадает так много, о, не слишком ли много для девушки, которой нет еще четырнадцати?! Ей предстоит преодолеть ненависть и семейные предрассудки (любовь к сыну врага, вдобавок, только что убившему в поединке ее кузена), восстать против воли родителей, выбравшим для дочки выгодного для них жениха, победить страх смерти (а чего это ей стоит, в трагедии показано по-шекспировски ярко и наглядно). А еще — отвергнуть искушение, которое предлагает любящая нянька, и, скрыв свой брак с изгнанным из Вероны Ромео, выйти за графа Париса. Нет, Джульетта не «железная леди»: она плачет, ужасается, колеблется и сомневается… И все-таки не сдается, опровергая всем известный миф о пресловутой женской слабости. Равно и о женской ветрености. Ведь именно Джульетта предлагает Ромео, если его чувства к ней искренни, скрепить их любовь Таинством Венчания. Увы, влюбчивому, темпераментному Ромео, томно вздыхающему под балконом нового предмета своей страсти (ибо он только что расстался со своим увлечением некоей Розалиндой) подобное просто-напросто не приходит в голову…
Вообще, при чтении и перечитывании «Ромео и Джульетты» не раз приходит в голову мысль о том, что герои трагедии «умерли вовремя». Уж слишком пылок и порывист Ромео, для которого главное — поскорее назвать Джульетту своей. Чувства графа Париса глубже… уж не потому ли народ Вероны в финальной сцене славит не только Ромео и Джульетту, но и ее отвергнутого жениха — Париса? Но все же мой рассказ не о нем — о Джульетте.
Финальную точку в борьбе за право быть собой Джульетта ставит в склепе Капулетти, у тела своего юного мужа. Ставит ее острием кинжала, который вонзает себе в грудь. Одерживая тем самым свою последнюю, самую великую победу. Что ж, «смерть не все возьмет — только свое возьмет». Примером справедливости этих слов является судьба Джульетты, возможно, самой светлой и сильной духом шекспировской героини. Ибо она уже сколько веков она живет и будет жить на книжных страницах, на театральных подмостках (вспомним хотя бы оперы Ш. Гуно и Беллини и балет на музыку С. Прокофьева, да-да, тот самый, в котором в свое время танцевала великая Галина Уланова!), на кино- и телеэкранах.
И в наших сердцах.
Говорят, будто все девочки хотят походить на Наташу Ростову. Но мне она не нравилась. Особенно такой, какой она стала, выйдя за Пьера. Наседка-домоседка! А это — идеал женщины? Нет уж, увольте!
Не нравился мне и Овод, с которого во времена моей юности обязан был брать пример каждый пионер или комсомолец. Сколько раз, сидя в зубоврачебном кресле и подвывая бормашине, я слышала наставления медперсонала: «вспомни об Оводе, бери с него пример»… Бр-р-р… Нет, Овод — герой «не моего романа»!
Возможно, из-за этой нелюбви к общепризнанным героям любимым моим героем невольно оказался… некий персонаж романа Достоевского «Бесы». И вовсе не демонический красавец Ставрогин, как, вы наверное, подумали. А… Петр Степанович Верховенский.
Что?! — скажете вы. — Ведь это же законченный мерзавец! Подлец! Смутьян! Предатель! Убийца! И это — ваш любимый герой? В таком случае — кто вы сами?! Кто я? Такой же человек, как и вы. И я вовсе не говорю, что мне нравится Петр Верховенский. В самом деле, что в нем хорошего? Ведь он является в мирный уездный город, чтобы посеять в нем ядовитые семена бунта. Выдает себя за эмиссара революционеров-эмигрантов, сколачивает революционную ячейку и, в лучших традициях криминала, «повязывает» ее членов кровью мнимого отступника Шатова. А потом, бросив своих товарищей, бежит за границу.
В отличие от Ставрогина, в Верховенском нет ни единой положительной черты. «Жестокосердый» — говорит о нем убийца Федька Каторжный. Ярчайший пример цинизма Верховенского — сцена с инженером Кирилловым, который перед тем, как застрелиться, должен взять на себя вину за убийство Шатова. Придя к Кириллову, Верховенский видит у него на столе вареную курицу. И с аппетитом набрасывается на нее, приговаривая: «вам она, полагаю, уже не нужна…»
Скажу честно, Петр Верховенский омерзителен мне не меньше, чем вам. А вот его реальным прототипом: революционером Сергеем Нечаевым я в свое время восхищалась. Да я ли одна! Об этом человеке писали в своих мемуарах революционеры-современники: В. Фигнер, В. Засулич, Н. Морозов. Его судебное дело читал и изучал И. Сталин. А историк начала ХХ в. П. Щеголев восторженно именовал его пламенным революционером и победителем Алексеевского равелина.
В самом деле, Сергею Нечаеву удалось то, чего не сумел сделать не один из заключенных этой секретной тюрьмы — распропагандировать и привлечь на свою сторону всю охрану равелина. Невероятно, но это и впрямь так! Пишут даже, будто Нечаев готовил побег… увы, не судьба оказалась…
Такой вот Нечаев… Хотя склонность к авантюрам, провокациям и честолюбие были ему присущи в той же мере, что и Петру Верховенскому. И он тоже убил человека. Только фамилия мнимого предателя, убитого Нечаевым, была не Шатов, а Иванов. И произошло это в Москве, в парке нынешней Тимирязевской академии, где в свое время Нечаев вел революционную пропаганду. Собственно, именно за это убийство он был осужден и приговорен к пожизненному заключению в Петропавловской крепости. О дальнейшем я уже вам рассказала. И это объясняет, за что и почему мне (и не только мне) нравился Нечаев. Последние, тюремные, 10 лет его жизни — и впрямь подвиг. Разве не так? Первый раз я прочла роман «Бесы» в юности, «на волне» интереса к судьбе Сергея Нечаева. Тогда он еще не издавался так широко, как сейчас, и единственное доступное мне издание, в «сером» 10-томнике Достоевского было снабжено соответствующими комментариями — «реакционный роман». И по ходу чтения не раз возмущалась: насколько же исказил Достоевский образ реального Нечаева! А ведь, между прочим, был на его процессе… И, хотя Нечаев на суде держался очень мужественно и выкрикивал революционные лозунги, Достоевский в своих дневниках написал: «какой маленький-маленький гимназистик»!
Зачем так порочить революционера? Чтобы в очередной раз продемонстрировать свою благонадежность и благонамеренность, а также разрыв с революционными увлечениями собственной мятежной юности?
Так я думала, в первый раз читая «Бесов». И недоумевая, почему же тогда Достоевский называл себя «нечаевцем»? Покрасоваться, что ли, хотел?
Много позднее, перечитав этот роман еще раз, я поняла: Достоевский, подобно всем великим писателям, поднялся от частного к общему. В романе «Бесы» он описал не историю реального Нечаева (именно поэтому в окончательном варианте романа, в отличие от его черновиков, он переименовал Нечаева в Верховенского). Это книга о бунте и бунтовщиках.
Как известно, Достоевский был глубоко верующим человеком. И в его книгах религиозный подтекст весьма глубок (кстати, название главы романа «Бесы» — «прелюбодей мысли», взято из богослужебного текста). А кто, согласно христианской традиции, является первым бунтовщиком? Сатана, предводитель и повелитель бесов. В Евангелии от Иоанна он назван «отцом лжи и человекоубийцей». Орудием бунтовщика Петра Верховенского является ложь. Он лжет на каждом шагу. Мечтает, раздув мировой бунт, явить миру Ивана-царевича, сиречь самозванца, в лице Ставрогина. Обманывает своих сторонников, внушая им, что Шатов — провокатор, и потому его должно убить. Лжец с «сожженной совестью» — вот что такое Петр Верховенский.
Как ни странно, именно ложь больше всего роднит его с реальным Нечаевым. Ложь и беспринципность — суть того зловещего явления, которое называют «нечаевщиной».
…Достоевского не зря именуют писателем-пророком. Ведь в то время, когда многим его современникам кружили головы революционные идеи, он осмелился во весь голос заявить, что бунт, вскипающий на ядовитой закваске лжи — это «путь смерти». И в подтверждение этому изобразил революционера Петра Верховенского таким, каким испокон веков на иконах рисовали бесов. Омерзительным и… Как ни странно — смешным.
Действительно, в отличие от Ставрогина, в Петре Верховенском совершенно нет того, что обозначают словом «пафос». Он мерзок и смешон, как подобает антигерою. И это еще одно свидетельство гениальности Достоевского, сумевшего не только обличить, но и язвительно высмеять «бесов революции» в лице Петра Верховенского.
Простите, товарищ Нечаев!
Собака на Луне и эссе про Обломова
Я была очень ответственной ученицей и отличницей. Всю русскую классическую литературу, что нам задавали на обязательное и внеклассное чтение, я прочла. Было много книг, которые запомнились, еще больше было тех, что (теперь, повзрослев, я это понимаю) — надо будет перечитать.
Но когда я задаюсь вопрос о том, кто мой герой, всплывает только одно имя.
И имя это (а точнее, фамилия) — Обломов.
Многие его не любят. В самом романе он представлен скорее, как антиобраз, как человек слабый, мягкий, и, как сейчас модно говорить, как тот, кто не покидает свою зону комфорта. Образ Обломова и «обломовщина» — стали нарицательно-порицательными словами.
А я его люблю. И сейчас, когда перед моими глазами бешеным вихрем проносятся учеба-работа-семья-друзья, когда в принципе вся наша жизнь превратилась в сплошную гонку за чем-то (или бегством от кого-то?) — сейчас я очень часто вспоминаю его слова. «А жить-то, жить-то, когда?» Жалобно вопрошает он своего друга, Штольца. Это не точная цитата — я цитирую по памяти, но это именно тот вопрос, который я постоянно себе задаю. За всеми этими бесконечными делами, за всем этим бешеным круговоротом разве не забываем мы саму жизнь? Разве жизнь состоит лишь только из бесконечной гонки тела и разума за чем-то, что всегда ускользает?
Мне кажется, что есть что-то более важное. Я думаю, именно об этом и говорил Илья Ильич. Что иногда нужно остановиться. Пойти немного помедленнее. Выдохнуть. Помолчать. Закутаться в шелковый халат, забиться на диван, лежать и думать о том, что происходит.
Но и постоянно так жить нельзя — это я тоже понимаю. Вся моя жизнь — это вечная борьба между диваном с халатом и книгами-музыкой-путешествиями-впечатлениями. Попеременно то одно, то другое одерживает верх. Но чем больше становится суеты вокруг меня, чем больше я включаюсь в нечто, что требует затрат моих сил ради некого будущего эфемерного блага, тем чаще я задаю себе тот же вопрос, который задавал себе (и другим) Обломов: «А жить-то, жить-то, когда?» Много раз я пыталась доказать себе, что быть Обломовым — плохо, что обломовщина — это ужасно, что надо быть похожей на Ольгу, сохранять живой и острый ум, постоянно обогащаться новыми впечатлениями, но… ничего у меня не получилось — Илья Ильич продолжает привлекать меня, он нравится мне, и я считаю его вопрос и его позицию очень важной.
Ведь он просто хотел понять, в чем же заключается суть жизни? Можно подумать, что суть — как раз в деятельности, во впечатлениях, в обсуждениях, но я не уверена, что это правильный ответ (и вообще ответ) на вопрос.
И потому Обломов — это мой герой, благодаря которому я могу хоть иногда махнуть на все рукой и наконец-то отдохнуть.
Анаркулова Наталья — о героинях повести «А зори здесь тихие»
Мне было лет 10. Я влетела в комнату и остановилась, пораженная. Моя старшая сестра сидела на диване, уронив безвольно руки и глядя в одну точку на стене. По ее щекам катились крупные слезы. Рядом с ней лежал потрепанный, видимо, читанный-перечитанный журнал «Юность». «Танюша, что случилось?» — спросила я, внутренне холодея. Сестра посмотрела на меня взглядом, полным горечи и страдания: «Их всех убили… всех … убили… убили…». Так состоялось мое знакомство с повестью Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»
Прочитала я повесть полностью лет через пять. Впечатление? Нет, это было не впечатление, это было горе. Будто умер кто-то родной. Я несколько дней говорить не могла. Наделенная очень живым воображением и чуткой, восприимчивой натурой, я просто растворилась в героинях повести. Пыталась быть спокойной, как рассудительная Рита Осянина, задорной и неунывающей, как Женя Комелькова, стала много читать Блока, уподобляясь Соне Гурвич, а Лиза Бричкина всегда восхищала своей хозяйственной обстоятельностью. Вот только Галку Четвертак я поняла и полюбила далеко не сразу. Все задавалась вопросом: ну как она могла испугаться? Как могла струсить, побежать?! Для меня, советской комсомолки, это было неприемлемо. Много позже, в очередной раз перечитывая любимую книгу, я сумела прочувствовать тот животный ужас, который испытала эта девочка, и поняла ее, и долго плакала над ней… Эти девчонки-зенитчицы стали для меня нравственным и жизненным ориентиром на долгие годы. Я равнялась на них, взрослея и принимая самостоятельные, часто трудные решения. Мне виделись их лица, когда я тяжело болела. Они шли передо мной, иногда оборачиваясь, когда бродила я по лесам Карелии с моими сыновьями. Там я впервые рассказала своим детям об этой великой книге. Я передала им эстафету признательности и автору, и героиням повести. Моим сыновьям, внукам ветерана войны, 18-летнего снайпера 2-го Украинского фронта, очень близка тема войны.
Бывают книги, из которых «вырастаешь». Когда-то нравилась, потом перерос ее и все, она уже не привлекает. Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие…» не из их числа. Эта книга — мой жизненный попутчик. И ее героини, оставаясь всегда молодыми, тем не менее все еще многому учат меня. Учат мудрости, самоотверженности, неизбывной жажде жизни. Жизни, которая у них была так коротка! Может, я прожила ее за них?
Как получить приз
Дорогие победители! Вам будет отправлено письмо по электронной почте. Пожалуйста, ответьте на письмо в течение 7 дней, сообщите адрес для отправления подарка, а также какую книгу из серии «Малая классика Речи» и «Классика Речи» вы хотите получить. Подарок отправляется Партнером конкурса: ООО «Издательство «Речь» (ИНН 7 801 139 303), Юридический адрес: 199 178, Санкт-Петербург, 11 линия. В.О., д. 26, Литер «Е», пом. 6Н. Подарок отправляется в течение трех месяцев после подведения итогов конкурса.
Не знаете, что почитать?
- Перейти к отложенным
- Убрать из отложенных
- Добавить к сравнению
-
Поделиться и получить бонус
- Написать рецензию