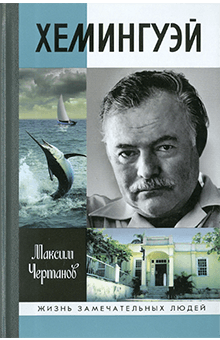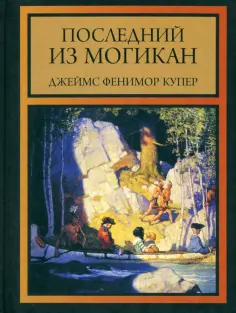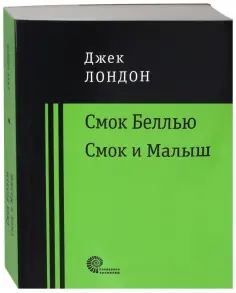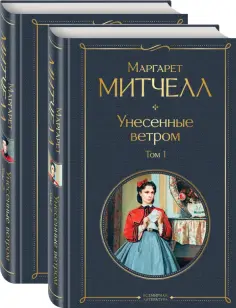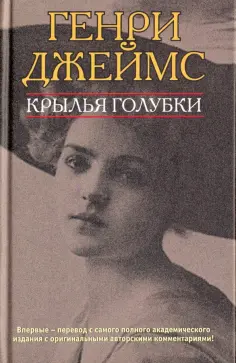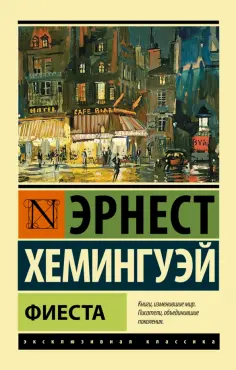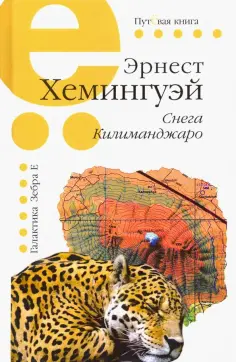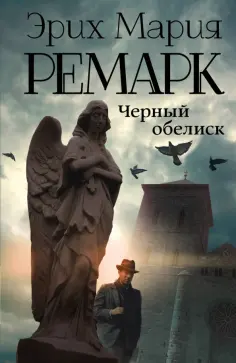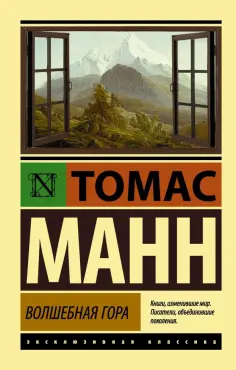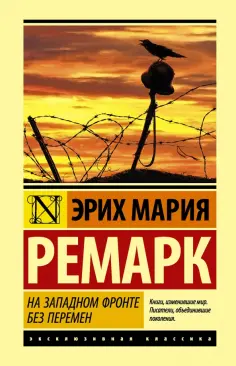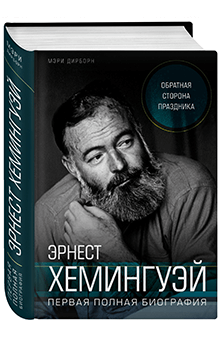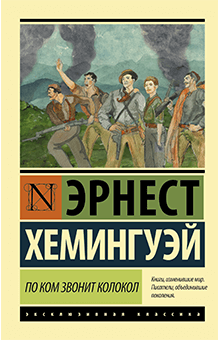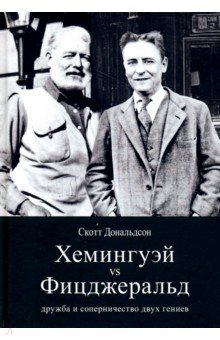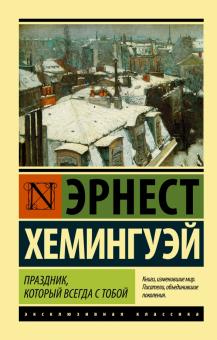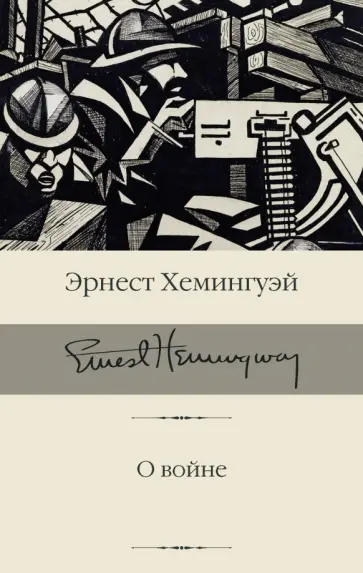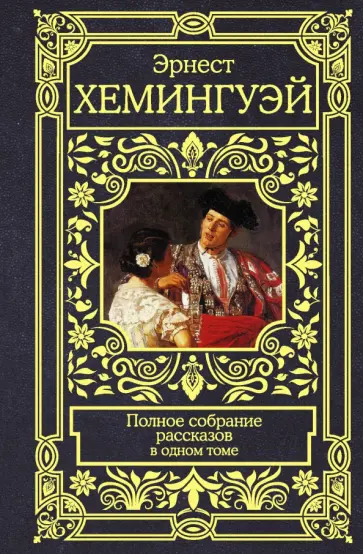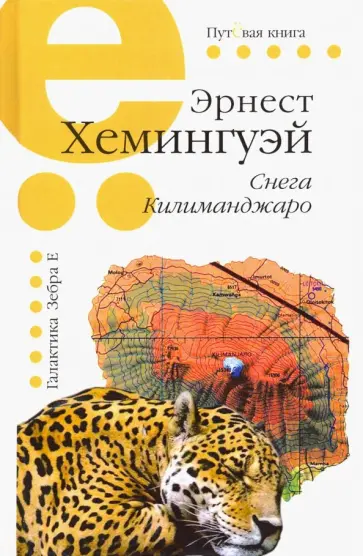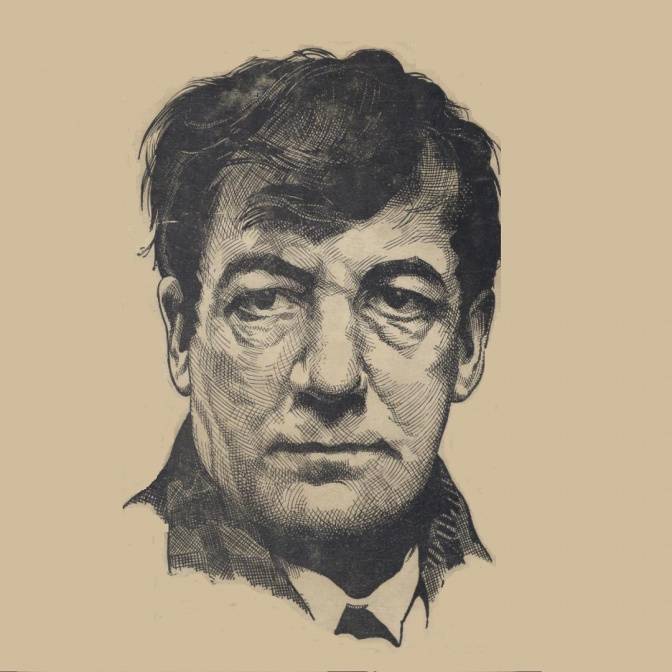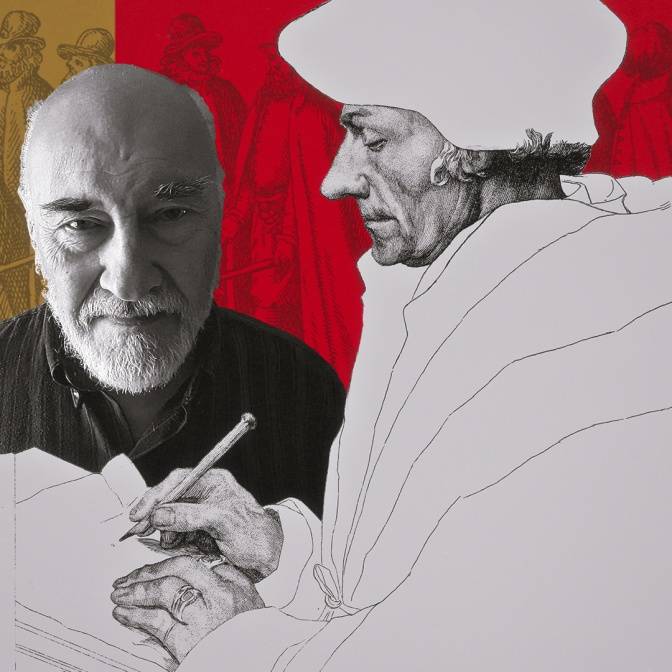Тэги
Авторская рубрика Афанасия Мамедова
21 июля 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения Эрнеста Миллера Хемингуэя — писателя и журналиста, непримиримого борца с фашизмом, одного из столпов американского модернизма.
Для одних литературных критиков середины ХХ века, таких, скажем, как Эдмунд Уилсон, он был «краеугольным камнем поколения», к которому сам Уилсон принадлежал. Другие критики — не менее знаменитые, чем Уилсон — полагали, что более ограниченного писателя, чем он, трудно сыскать, что будто бы именно поэтому его герои так молчаливы и бездушны, любят лишь бокс, бой быков, драки, ловлю форели и другие «мужские утешения» не высокого полета; о стиле его письма и говорить нечего, настолько он минималистичен, «графичен», а если быть точнее — опрощен. Неудивительно, что за последними в США закрепилось прозвище «отцеубийц», ведь по всему миру Хемингуэя называли не иначе, как «папой». (Уж не были ли эти критики, страдающие «эдиповым комплексом» на службе у директора ФБР Эдварда Гувера? В истории американской литературы хватает примеров, когда критика по спецзаданию пыталась уничтожить творчество «неугодных» писателей.)
В отличие от США, у нас «папой» его признали безоговорочно, хотя почему-то долгое время откладывали публикацию одного из лучших его романов — «По ком звонит колокол». Поговаривают, будто даже сам Никита Сергеевич не удержался-таки, пустил в меру честную слезу, узнав, что сорок девятый нобелевский лауреат покончил жизнь самоубийством.
В страну, недавно освободившуюся от оков деспотии, из которой долгие годы выколачивали Бога, в которой выросло несколько поколений мальчиков и девочек, лишенных дедов, отцов и старших братьев, он буквально вдохнул надежду на новую жизнь, стал «охранителем семейных очагов», «доверительным лицом», «символом „оттепели“», а его книги — «судом чести и чувств» и «залогом успеха в новой жизни». Проза Хемингуэя стала тем цементирующим составом, без которого поколение шестидесятников если бы и сложилось, то непременно вскоре распалось, не оставив по себе доброй памяти.
Его «бородатый» фотопортрет в рыбацком свитере (от Диора) и первый двухтомник, «одетый в монашескую рясу», с предисловием и комментариями Ивана Кашкина, стояли практически в каждом интеллигентном доме на самом видном — да что там, на видном, почетном месте — и работали, точно система «свой-чужой».
Молодые люди влюблялись и расходились, как герои его произведений, дрались и пили, уходили в горы и искали свой остров в океане или кошку под дождем, или иссохший мерзлый труп леопарда, который лежит почти у самой вершины западного пика Килиманджаро, называемого племенем масаи «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога».
Сравниться с тем влиянием, какое Хемингуэй оказывал на наших соотечественников в 60-е, мог только джаз. Американский. Впрочем, и американский джаз тоже шел тогда под его прозу.
Но времена меняются, рушатся стены и мосты, уходят герои, неизменными остаются самые простые вещи — восходящее солнце, глаза любимой, место для стелы и календарь. Как случилось, что великий американский писатель стал еще и «русским народным писателем», породив сонмы подражателей и целое направление в нашей литературе? Какое место папа Хэм занимает, спустя полвека, в новой России? Как к нему относятся сегодня на Западе? Можно ли назвать поколение шестидесятников — «потерянным»? На эти и другие вопросы мы попросили ответить советского и российского литературоведа, доктора филологических наук, профессора МГУ, специалиста по американской литературе XX века, в том числе, по творчеству Уильяма Фолкнера и Эрнеста Хемингуэя, Николая Анастасьева; израильского писателя и журналиста, шестидесятника Давида Маркиша; филолога, переводчика, преподавателя русского языка и литературы Екатерину Кузнецову, кандидата филологических наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Московского Международного университета, специалиста по американской культуре XX века Алексея Гвоздева.
Вся американская литература по преимуществу мужская
Афанасий Мамедов Пик популярности Эрнеста Хемингуэя пришелся на 60-е годы прошлого века. Какое место он занимает в нашей литературе сегодня, и как к нему относятся на Западе?
Николай Анастасьев В последние годы на русском языке обнародовано несколько книг о Хемингуэе, что, казалось бы, должно свидетельствовать об оживлении угасшего было интереса к его творчеству. Увы, это иллюзия, ибо авторов этих книг и, прежде всего, биографии Хемингуэя, написанной для серии «ЖЗЛ» Максимом Чертановым (кажется, это псевдоним), творчество писателя — язык, сюжеты, персонажи и т. д. — занимают как раз в последнюю очередь, а в первую — сор быта, альков, охотничьи пристрастия и винные вкусы. Между тем, по справедливому замечанию Набокова, писатель издерживает свою биографию в книгах, и, стало быть, небрежение оными не приближает к нему, а удаляет, сколь бы ни щекотали нервы неприхотливого читателя скандалы, слухи, интриги недругов и щедрые жесты друзей. Насколько я могу судить, то же праздное любопытство к частной жизни писателя отличает и немногочисленные очерки жизни Хемингуэя, что появляются сейчас на Западе, прежде всего, на его родине, в Америке.
Ничего даже отдаленно похожего на сочинения Эдмунда Уилсона и Малькольма Каули мне в руки не попадалось. Вот они поистине увлекательны, хотя об охоте на львов, ловле марлинов, корриде и упражнениях на ринге там говорится немного и исключительно в связи с поэтикой романов и новелл писателя Эрнеста Хемингуэя. Что же касается его присутствия собственно в современной литературе, что в нашей, что, скажем, в американской, то я лично его практически не ощущаю, быть может, в силу слишком поверхностного знакомства как с той, так и с другой.
АМ А как могло так случиться, что Хемингуэй стал нашим «национальным писателем»? Не связано ли это, среди прочего, с тем, что появились несколько поколений мальчиков и девочек, лишенных мужской опеки: их деды, отцы, старшие братья либо погибли на войнах, либо оказались в мясорубке сталинского террора? В образе Хэмингуэя их привлекало все в одном — дед-отец-старший брат, «охотник-добытчик», «хранитель очага».
НА Действительно, хоть переводить Хемингуэя у нас начали рано, еще в начале 30-х годов прошлого века (даже раньше, первая публикация датирована 1928 годом), во второй половине 50-х он сделался нашим, как вы говорите, «национальным писателем», если не «нашим всем», то, по крайней мере, частью жизни всякого, в возрастном диапазоне от пятнадцати до пятидесяти и более лет. Свидетельствую как человек, впервые прочитавший «Старика и море», затем (в обратном, стало быть, порядке) «Фиесту», «Прощай, оружие!» и все остальное как раз когда мне было 14 и/или 15 лет. И дело тут, мне кажется, не в послевоенной (у многих моих сверстников) безотцовщине и обездоленности. Просто мы примеряли себя к его персонажам, старались пить, как пьют и не пьянеют они; говорить так, как говорят они, отрывисто и скупо; так же любить, то есть, ни к кому тесно не привязываться и хранить независимость. Разумеется, сейчас, оборачиваясь назад, во всем этом видишь далеко не всегда убедительный театр; сейчас устало понимаешь, сколько в том, шестидесятилетней давности поведении было сантиментальной фальши, да и просто глупости; сейчас, наконец, различаешь такую же фальшь в книгах самого Хемингуэя. Но для этого надо было жизнь прожить и читать научиться — что, к слову, не только благо: обретая, в меру сил, такое умение, многое безвозвратно теряешь, прежде всего, непосредственную свежесть восприятия писательского слова. Но тогда мы были искренни.
АМ Так в чем же тогда был секрет его невероятной притягательности для вашего поколения?
НА Во многом, общее ощущение выразил хемингуэевский сверстник Юрий Олеша, у которого есть примерно такая дневниковая запись. Отчего, задается он вопросом, мы с таким неослабным вниманием следим за совершенно незначительными поступками мужчин и женщин Эрнеста Хемингуэя? А оттого, отвечает он сам себе, что и нам приходится ездить на такси, и нам случается выпить рюмку в баре, и мы, бывает, забрасываем удочку в реку, и мы влюбляемся, и от нас уходят друзья. Хемингуэй умеет показать все это и многое другое с редкой пластической достоверностью, и нам кажется, будто происходящее происходит с нами, здесь и сейчас. Дневниковая запись — не литературно-критическое сочинение, не нужно искать в нем строгости. А в главном Олеша прав. Мы прочли новеллы и романы Хемингуэя, нам показалось, что это прекрасный (что, в общем, правда) и даже безупречный (что совершенная чушь) писатель, но не в том суть: едва успев сделать это открытие, мы в тот же момент Хемингуэя — как художника — парадоксальным образом потеряли, переместив из воображаемого мира в мир реальный. Он стал собеседником в застолье, спутником в походах, добрым товарищем. К слову сказать, тогда, в том воздухе, биографии, подобные нынешним, показались бы куда органичнее, чем сегодня. Но их не было, и, может быть, настоящее в этом смысле старается компенсировать аскезу прошлого. Но в таком случае, как выразился бы их, биографий, герой, победитель не получает ничего.
АМ Принято считать, что Эрнест Хемингуэй — «мужской писатель», что женщины если и читают его сегодня, то только «Праздник, который всегда с тобой», ну и, быть может, еще «Фиесту». Вы согласны с таким мнением?
НА Не знаю уж, что из Хемингуэя читают сегодня именно женщины, пусть об этом судят социологи чтения, но с тем, что он, при всей условности определения, писатель мужской, я готов согласиться. Только дело в том, что вся американская литература — литература по преимуществу мужская, в ней даже дети — мужчины, например, Гек Финн. Что уж говорить о капитане Ахаве, полярниках Джека Лондона, само собой, о солдатах и матадорах Хемингуэя? Но где леди Макбет? Где Кармен? Анна Каренина, тургеневские девушки, Эмма Бовари? Женские лица фатально не даются американским писателям. Натти Бампо стоит перед глазами любого, кто когда-либо открывал книги Фенимора Купера, но затруднительно сказать что-либо внятное про юную особу, появлением которой открывается «Последний из могикан». Быть может, один только Готорн умел по-настоящему, на мировом уровне, писать женские портреты. Ну и Скарлетт О’Хара, конечно. Но «Унесенные ветром» стоят все же на полке с другими книгами, не рядом с классиками, в том числе и классиками ХХ века. А леди Брет, Кэтрин Баркли и Мария — всего лишь эскорт своих героев-мужчин.
Кстати, коли случилась оказия — небольшое примечание к собственной недавней публикации («Дружба народов», 2019, № 2), где я заспорил, увы, сильно задним числом с Георгием Дмитриевичем Гачевым, автором сколь замечательной, столь и провокационной книги «Америка» — одной из частей его, теперь можно сказать, эпохального цикла национальных образов мира. Он написал в ней, в частности, что «любовь еще не начиналась на американском континенте, в американской литературе», и, чтобы изобразить ее, Хемингуэю пришлось ехать в Европу и Африку. Ну как же не начиналась, возразил я, написаны романы Генри Джеймса, Скотта Фицджеральда, пьесы Теннесси Уильямса, об авторах второго ряда, той же Маргарет Митчелл либо Уилле Кэсер, даже не говорю. Да и у Хемингуэя места, где происходят любовные драмы, это лишь условность сюжета, и к тому же находятся эти места не только в Париже, Памплоне или Кении, но и «у нас в Мичигане». Все так, и тут Георгия Дмитриевича, или Гену, как его называли близкие и даже не очень близкие, вроде меня, друзья, несколько занесло. Но есть в его словах и своя правда: любовь в американской литературе — это любовь мужская (прошу только не искать тут намеков на столь модную ныне тему нетрадиционных сексуальных ориентаций, речь идет о чисто художественных предметах).
АМ А что вы вообще думаете о модном нынче гендерном разделении в литературе?
НА На мой, допускаю, не просвещенный взгляд, это проблема выдуманная. Она имеет чисто ситуационный характер. Есть книги, написанные мужчинами, есть книги, написанные женщинами. Естественно, они отличаются друг от друга, как отличаются друг от друга книги, даже если они написаны на одном языке и примерно в одно и то же время, одного мужчины и одной женщины от книг другого мужчины и другой женщины. Например, проза Диккенса от прозы Теккерея. Или лирика Цветаевой от лирики Ахматовой. Но вершины, если это вершины, по слову той же Цветаевой, сходятся, и там, наверху, никакого «гендерного деления» нет. Сапфо — женщина, и она писала в 7 веке до н.э. Катулл — мужчина, и он писал 6 столетий спустя, но дает своей возлюбленной Клодии имя Лесбии по названию острова, на котором жила Сапфо, а также пользуется, хоть и нечасто, сапфической строфой. Любителям поупражняться на этой действительно оживленной ныне площадке предлагаю проделать такой эксперимент: положите рядом любую из книг Вирджинии Вулф, например, «Миссис Дэллоуэй», и любую из книг Олдоса Хаксли, например, «Контрапункт», и укажите, какие действительно имеющиеся в них различия связаны с половой принадлежностью автора. Боюсь, эффект получится нулевой.
АМ Как вы относитесь к высказываниям тех современных литературоведов, которые развенчивают мужество Хемингуэя, мужество его героев, называя его показным, никак необоснованным, а наши плюс к тому и мужество шестидесятников ставят под сомнение, полагая, что и оно тоже не что иное, как компенсация, замещение, подмена, мол, откройте Фрейда и все найдете у него?
НА Опять-таки к подобного рода высказываниям не отношусь никак по той простой причине, что они мне неизвестны (кажется, какие-то глухие или даже не очень глухие намеки в этом роде попадались на страницах книги упомянутого М. Чертанова, но положительно утверждать не берусь). Что же касается шестидесятников, то да, верно, их, этих ранних либералов советской эпохи, сейчас вошло в привычку всячески ругать. Чаще всего в таких инвективах, то агрессивных, то безвкусно-ернических, то вовсе непристойных (когда ведущий одной популярной телепрограммы называет академика Сахарова, не шестидесятника, разумеется, но фигуру для них неколебимо авторитетную, едва ли не поджигателем войны), ощущается неуемный дух почвенничества, а более всего угрюмая подозрительность по отношению к чужакам: либералам, демократам, западникам — словом, к пятой колонне, тайно или явно покушающейся на национально-государственные устои России. Во всем этом много паранойи, много невежества, много злобы, и что тут скажешь? Параноиков надо жалеть, а невежд и злопыхателей, ну, не знаю, просто не замечать, что ли. Из всего этого, разумеется, совершенно не следует, будто шестидесятники — это безупречные рыцари, поведение их — образец чести и достоинства, а речи сродни Нагорной проповеди. По всякому случалось, и в иллюзии впадали, и в романтические грезы, и действительно многовато было проповеднического пафоса. Вспоминая себя, каким был в те годы, и своих старших — но всего на 8−10 лет — товарищей, тех, кому один из них, Станислав Рассадин, и придумал имя, я вполне признаю, что ирония во многом заслуженна. Но ирония, а не злобное поношение. При этом факт остается фактом: тем воздухом можно было дышать, и не последнюю роль в освежении атмосферы сыграли шестидесятники, а уж называть это мужеством, или искренностью, или правдолюбием — дело вкуса.
Надо, однако, вернуться к юбиляру. Стало легче дышать, железный занавес чуть раздвинулся, и через образовавшийся просвет стало можно переговариваться с миром, преодолевая стереотипы сознания, разделяющего людей на «наших» и «не наших» (сейчас они, к великому сожалению, энергично возрождаются). Инструментом этой душевной терапии стало, в первую очередь, западное искусство — писатели, музыканты, артисты. От их общего имени и выступил как раз Эрнест Хемингуэй, у которого оказалось немало «двойников» — спутников: Питер Брук, Ив Монтан, Джордж Гершвин… Сам-то он на роль чрезвычайного и полномочного посла, конечно, не претендовал, это мы его назначили. И в таком смысле он тоже стал чем-то вроде шестидесятника.
АМ У нас Хемингуэю подражало много писателей, еще больше училось у него мастерству, но оказывается не только у нас. Под влияние Хемингуэя попадали многие, впоследствии прославившиеся писатели. Вот что, к примеру, говорил Габриэль Гарсиа Маркес: «Фолкнер вскормил мой литературный дух, а Хемингуэй научил писательскому ремеслу». С чем, на ваш взгляд, связано то обстоятельство, что именно Хемингуэй стал «литературным институтом» для многих писателей?
НА Хемингуэю подражали — именно подражали, а не учились, а это, понятно, намного труднее — не только у нас, но и в Америке, и в Европе. Что неудивительно — первое, что у него бросается в глаза — прием, и обаяние такого стиля слишком заразительно. Как-то в разговоре со мной Чингиз Айтматов обмолвился в том роде, что восхищается языком Хемингуэя. Помнится, я удивился: сам-то он, и в ранних повестях, а уж в таких вещах, как «И дольше века длится день» подавно, пишет совершенно иначе. Чингиз своим чередом подивился моему удивлению: ну как же, ведь он — мастер. Так что прав Гарсия Маркес, на которого вы ссылаетесь. Могу по случаю привести его же, пожалуй даже, более выразительное высказывание: «Он (Хемингуэй.-Н.А.) был и остается величайшим учителем профессиональных писателей. В его работе определенно видны все писательские приемы, у него легко учиться». Такого рода «учеба», конечно, прямой путь к эпигонству, коего следы заметны, честно говоря, в самых ранних вещах Аксенова и Гладилина, в некоторых повестях Сергея Довлатова. Ну, а в серьезный, хотя и не вдруг заметный диалог с Хемингуэем у нас вступали отчасти «лейтенанты» — Бакланов, Быков, Бондарев, а более всего Юрий Казаков и сильно, по моему мнению, недооцененный Георгий Семенов.
АМ А у кого учился сам Хемингуэй, у кого «вскармливался литературным духом»?
НА Что касается «учителей» самого Хемингуэя, то это, в первую очередь, Шервуд Андерсон со своим сборником рассказов «Уайнсбург, Охайо» и Гертруда Стайн. Ученик, надо признать, не чрезмерно благодарный и язвительный, Хемингуэй спародировал ее стиль в известной строке из «Колокола»: «камень это камень это камень». У нас в свою пору с упоением эту строку цитировали — как доказательство разрыва «реалиста» Хемингуэя и «модернистки» Гертруды Стайн. Между тем, ключевые и общеизвестные элементы того, что называют стилем Хемингуэя, — повторы, лейтмотивы и так далее — были впервые разработаны и опробованы в экспериментальной прозе его старшей современницы. Например, знаменитейшая новелла «Мистер и миссис Элиот» с ее рефреном — «Мистер и миссис Элиот очень старались иметь ребенка» — прямо выросла из новеллы Гертруды Стайн «Мисс Фэрр и мисс Скин». А эпизод «Автобиографии», где умирающий в парижской больнице Гийом Апполинер воспринимает клики восторженной толпы «A bas Guillaume!» (то есть, «Долой Вильгельма!») на свой счет, прямо перекочевал в «Праздник, который всегда с тобой», как, впрочем, и сцена в гараже, хозяин которого, обращаясь к подмастерью, якобы и произносит крылатую фразу: «Все вы — потерянное поколение».
АМ Почему сегодня так мало перепереводят Хемингуэя? Не потому ли, что переводы «кашкинской школы» — классика, которую нельзя трогать?
НА Полагаю, этот вопрос следует адресовать самим переводчикам, а также издателям. Во всяком случае, трепет перед «школой Кашкина» (что это, к слову, за школа такая?) тут совершенно ни при чем. Могу лишь строить догадки. Например: переводы Н. Волжиной, Е. Калашниковой, Н. Дарузес, В. Хинкиса и, в первую очередь, действительно пионерские в свою пору, хотя, повторяю, на канонический статус не претендующие работы И. Кашкина хороши настолько, что с ними и соревноваться нет резона? А может, резон есть, но занятие это настолько трудное, что новое поколение переводчиков перед трудностями пасует? Понять могу, переводить, допустим, Стивена Кинга не в пример проще. К тому же, исключения все же имеются — новый перевод романа «По ком звонит колокол». О достоинствах его судить воздерживаюсь, ибо он выполнен самым близким мне человеком, родной женой Ириной Дорониной, и замечу лишь, что хотя бы в одном отношении он ближе оригиналу, нежели давняя, весьма добротная работа Н. Волжиной и Е. Калашниковой, притом, что заслуги переводчика в том нет никакой: просто пали тяжелые оковы цензуры, и никого уже не смущает, как прежде, что у высокопоставленных партийных лиц могут быть любовные связи на стороне (в прежней версии корреспондент «Правды» в воюющей Испании Карков, за которым, как известно, стоит Михаил Кольцов, представлен безупречным семьянином, что несколько противоречит образу, изначально написаному Хемингуэем).
АМ В своем знаменитом сборнике эссе «Нарушенные завещания» Милан Кундера буквально по полочкам разбирает знаменитый хемингуэевский рассказ «Белые слоны». Название этого рассказа работает на знаменитый хемингуэевский подтекст, на его суггестику, чуть перекрути название и будет не совсем понятно, почему, как пишет Кундера, «любой мужчина может произнести те же фразы, что и американец, любая женщина — те же фразы, что эта девушка». Однако стоит заметить, что в оригинале это название звучит несколько иначе — «Hills Like White Elephants». Как вам кажется, чем обусловлено предпочтение переводчика? Только тем, что два слова всегда лучше, чем четыре? Настроением, ритмом, чем-то еще?
НА Мне кажется, ни настроение, ни ритм здесь ни при чем, как ни при чем и стремление к лаконизму, при всей любви к нему самого автора. Возможно, укорачивая в переводе оригинальное название новеллы, А. Елеонская держала в памяти известный завет или, скажем, известную «технологию айсберга», разработанную молодым Хемингуэем: «Можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, тогда это лишь укрепляет сюжет, и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое». А впрочем, наверное, я просто фантазирую, или даже умничаю, ведь в самой новелле никакого подтекста нет, а есть прямо сказанное слово. «Девушка смотрела вдаль, на гряду холмов; они белели на солнце, а все вокруг высохло и побурело. — Словно белые слоны, — сказала она». А уж дальше действительно начинается подтекст — Кундера в упомянутом эссе его мастерски раскрывает.
Так что, возвращаюсь к вопросу, не знаю, почему в переводе исчезла вторая половина названия. Я бы лично просто воспроизвел слова девушки: «Словно белые холмы». А ясный намек на то, с чем, вернее, с кем сходен расстилающийся вокруг пейзаж, заключен в первой же фразе новеллы: The hills across the valley of the Ebro were long and white.
АМ Мы сегодня многое в биографиях великих писателей воспринимаем как должное, хотя вопросы по-прежнему остаются. Почему, например, Хемингуэй перебрался на Кубу?
НА Вообще-то Хемингуэй, в отличие от домоседа Фолкнера, любил, как известно, перемещаться по странам и континентам, городам и весям, но действительно, в известном смысле домом его в последние примерно 20 лет жизни стала усадьба Финка-Вихия близ Гаваны (хотя осенью 1960 года он переселился в городок Кетчум, штат Айдахо, где полгода спустя покончил счеты с жизнью). Почему все так сложилось?
Может, потому, что на Кубе была хорошая рыбалка. Может, потому, что там хорошо работалось — на Кубе была написана большая часть романа «По ком звонит колокол», начата и завершена книга лирических мемуаров «Праздник, который всегда с тобой» (вот, между прочим, благодатное поле приложения усилий нынешнего поколения переводчиков — существующая версия, на мой взгляд, мало удовлетворительна), а также последняя книга про испанскую корриду — «Опасное лето».
Может, потому, что после вступления США во Вторую мировую войну в стареющем ветеране пробудился боевой бух, и он объявил своему давнему смертельному врагу —фашизму — персональную вендетту, выходя на своей яхте «Пилар» в Карибское море на перехват немецких подлодок — этот эпизод его биографии, вызвавший, к слову, немалый переполох в штабах американских военно-морских сил, описан в незаконченном, посмертно опубликованном романе «Острова в океане».
А лучше всего, по-моему, то ли поверить, то ли не поверить, но, во всяком случае, прислушаться к объяснению самого писателя. В Америке, по возвращении с фронтов Гражданской войны в Испании, он, по собственным словам, задыхался. «Там плохо проветривалось помещение. Трудно было дышать и думать. Смрад, исходивший от желтого дьявола, с каждым годом становился все гуще. Многие мои друзья от этого и сами начинали смердеть… А здесь, на Кубе, я, может быть, смогу рассказать людям то, что заставит их бояться фашизма».
АМ Бытует мнение, что Хемингуэй и о Советском союзе, о Сталине и НКВД сложил свое мнение еще на испанской гражданской войне, потому и не питал никаких иллюзий. Выбор его — между фашизмом и коммунизмом, в пользу коммунизма — основывался исключительно на положении: «выбираю зло меньшее». Вы с этим мнением согласны?
НА По-моему, на этот счет все написано, или, если опять-таки вспомнить Набокова, издержано в «Колоколе» и в пьесе «Пятая колонна». А сплетни меня не интересуют.
АМ А как на счет того, что, по меткому выражению Гертруды Стайн, Эрнест Хемингуэй принадлежал к «потерянному поколению»?
НА Давайте, по совету мудрого Декарта, договоримся для начала о содержании понятий. «Потерянное» — в каком смысле?
Стоит перечитать, пусть и в неважном переводе, «Праздник, который всегда с тобой», хотя бы главу, которая так и называется: Une Generation Perdue. Там как раз и воспроизводится укор, брошенный пожилым хозяином гаража молодому механику. «Когда я писал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную мисс Стайн в гараже, со словами Экклезиаста. Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, его, возможно, везли в таком же вот „форде“, переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости, и иногда приходилось включать и заднюю передачу, и как последние машины порожняком пускали под откос, поскольку их заменили огромными „фиатами“ с надежной коробкой передач и тормозами. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне и об эготизме и о том, что лучше — духовная лень или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение?» А дальше Хемингуэй и вовсе припечатывает: «К черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные, дешевые ярлыки».
Но это сказано под конец жизни, когда позади остались годы и книги, и многое было продумано и передумано, и давние положения, казавшиеся некогда осмысленными, покрылись от беспрестанного повторения густым слоем пыли, смысл утратили и действительно превратились в привычный набор пустотелых слов. А некогда Хемингуэй сделал эту фразу одним из двух эпиграфов к «Фиесте» — по контрасту с другим эпиграфом, ну да, из Экклезиаста: «Род проходит, и род уходит…»
Однако же, помимо абсолютного авторитета Книги Книг существует еще и явление более узкое, но тоже существенное — опыт истории Нового времени. Мировая война нанесла мощный удар по тем опорам гуманизма, на которых худо-бедно держалась Европа предшествующих ей трехсот лет. Собственно, про это Хемингуэй и написал в своем главном военном романе «Прощай, оружие»: утратили свое содержание, нестерпимой фальшью зазвучали слова вроде «священный», «славный», «жертва», и сохранилось оно только в номерах полков и дивизий да покрытии дорог. Наиболее остро эта утрата выразилось в книгах про войну — самого Хемингуэя, а также Ремарка, Олдингтона, Дос Пассоса, Луи Селина и кое-кого еще, с именами не столь громкими. Но не только у них. Если угодно, «потерянность» гораздо глубже, глубже в онтологическом и экзистенциальном смысле, выразилась в «Волшебной горе», где нет войны, но есть, по справедливой самооценке автора, вся диалектика Европы.
АМ Можно ли считать «потерянным» и поколение наших шестидесятников, для которых Хемингуэй был иконой?
НА Как я уже, кажется, сказал, если Хемингуэй и был для нас «иконой», то совсем недолго, первоначальная безоглядная влюбленность сменилась трезвостью во взгляде, а «иконой» (что тоже не похвально, кумиров творить, как известно, не надо) стал другой американский писатель — Уильям Фолкнер. Но я сейчас не про литературу.
Вряд ли шестидесятники были выносливым поколением в том смысле, какой вкладывал в это понятие Эрнест Хемингуэй. Они для этого слишком поздно родились. Хотя, скорее всего, тут я не судья. Пусть не участники, пусть дети войны, они полной мерой хлебнули в самые ранние свои годы такого лиха, какого, например, я, появившись на свет 8-ю, 9-ю, 10-ю годами позднее, хлебнуть не успел. Так что, может быть, и впрямь — выносливые. Если же говорить о «потерянности» в том раннем значении, что закреплено в эпиграфе к «Фиесте» — и тут я, наверное, вправе употребить местоимение первого лица во множественном числе — то да, мы потеряли ту веру, которая некогда одушевляла наших отцов-комиссаров в пыльных шлемах. Верно, такая утрата (в отличие от утрат поколения, к которому принадлежал Эрнест Хемингуэй) была скорее благодатна, ибо означала освобождение от бремени догмы, но в то же время сейчас, на склоне лет, я немного завидую искренности комиссарской веры, которую всегда, при всех несогласиях, ощущал в своем тесте Якове Алексеевиче Доронине — боевом генерале, ветеране трех войн, что первый свой шлем надел на фронтах Гражданской. Удивительно, в какие дали завел меня разговор об американском писателе, но я рад, что так получилось.
АМ Как вы относитесь к биографиям Хемингуэя, вышедшим в последнее время, в частности, к нашумевшей биографии Мэри Дирборн «Эрнест Хемингуэй. Обратная сторона праздника»? Насколько она «полная», как позиционируют это издатели книги?
НА Как отношусь к биографиям, вышедшим на русском, я уже сказал. Упомянутую вами книгу, к стыду своему, не читал. Спасибо за наводку — непременно прочитаю.
АМ Как вы относитесь к журналистской деятельности Хемингуэя? Она столь же значима? Хемингуэй-журналист так же принципиален, как и писатель?
НА Опять-таки — что понимать под принципиальностью? Если прямоту и честность высказывания, то не просто «столь же», но и гораздо более, и так и должно быть, потому что в художественном творчестве такого рода принципиальность чаще всего оборачивается указующим перстом, который портит даже хорошую литературу. Что же касается значимости журналисткой работы Хеминугэя, то, по-моему, это не предмет для сколько-нибудь содержательного разговора. «Кто убил ветеранов во Флориде», «Испанская земля», «Все храбрые» и иные вещи того же жанра — это явно не журналистика, а послевоенные (не говоря уж о довоенных) публикации в канадских газетах — просто честные репортажи, ни в какое сравнение с публицистикой, скажем, его одногодка Уолтера Липпмана (не говоря уж о Джоне Риде) они не идут.
А вообще-то, как обычно, лучше биографов, комментаторов, наблюдателей ответил на эти вопросы сам Эрнест Хемингуэй. Оборачиваясь на прожитую жизнь, он писал: «Я помню, как вернулся с Ближнего Востока (с фронта греко-турецкой войны 1922 года, куда Хемингуэй был командирован газетой „Дейли Стар“. — Н.А.) с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И, холодный, как змий, я решил стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как только могу».
АМ Какие из произведений Эрнеста Хемингуэя вы бы сейчас стали перечитывать? Отдали бы предпочтение его рассказам или романам?
НА Почему «стал бы»? Я и так время от времени, с неубывающим удовольствием перечитываю «Кошку под дожем», «Мистера и миссис Элиот», еще кое-какие новеллы из ранней книги «В наше время». Относительно недавно вот, сочиняя предисловие к новому переводу «Колокола», перечитал этот роман — по-моему, ничего лучшего — насколько я, конечно, могу судить — о Гражданской войне в Испании не написано.
О Хемингуэе и Фокнере я бы сказал — «оба лучше»
АМ Всплеск огромного интереса у советского читателя к произведениям зарубежной англоязычной литературы приходится на времена хрущевской оттепели. В этот период в стране издаются наиболее яркие произведения известных писателей XX века. Но популярность Эрнеста Хемингуэя в СССР просто зашкаливает, ее даже не назовешь фантастической. Не умаляя всех достоинств Хемингуэя-писателя, все-таки хотел бы задать вопрос: мог бы Хемингуэй стать иконой «советских 60-х» без отмашки сверху и содействия спецслужб, которым он был на тот момент очень нужен — в виду ли Карибского кризиса или по каким-то иным причинам?
Давид Маркиш Без «отмашки сверху» в СССР того времени ничего не случалось. Уверен, что американец Эрнест Хемингуэй туда был «впущен» и «иконизирован» — по заслугам! — по решению кремлевских идеологов. Начиная с середины 20-х годов, Москва пыталась привлечь на свою сторону и привязать к себе именитых-знаменитых западных интеллектуалов левой политической ориентации, и это у нее неплохо получалось; срывы бывали нечасто. Такому успеху способствовало множество объективных и субъективных причин, на которых я не хочу здесь останавливаться. Писателей, но не только их, клюнувших на живца кремлевской пропаганды, в определенных кругах принято было скопом именовать «агентами влияния»; отчасти это определение было верно. Эти «агенты», обладавшие определенным влиянием на западное общество, избегали критиковать тоталитарный советский режим, и Москве этого было достаточно.
В непродолжительный период хрущевской оттепели Хемингуэй получил допуск в СССР — весь, кроме, пожалуй, романа «По ком звонит колокол», и то лишь поначалу; в конце концов, пробился и он. В известном смысле писатель Эрнест Хемингуэй конкурировал с писателем Александром Солженицыным: их фотопортреты — один в свитере крупной вязки под подбородок, другой с глубоким шрамом морщины через весь лоб — висели рядышком на стенах квартир многоголовой читающей молодежи. Великолепный Хэм, пожалуй, «перевисел» взыскующего Солжа. Все это укладывалось в рамки кремлевской оттепели: Хемингуэй не был критиком советского режима, а Солженицын — был.
АМ Вы, с одной стороны, известный израильский писатель, пишущий на русском языке, с другой — не менее известный русский писатель и, в довершение ко всему этому, еще и «классический шестидесятник» и диссидент-«отказник». Ваше отношение к «стукачам» и отношение к «стукачам» «шестидесятников» — место общее, тут нет нужды ходить и «собирать подписи». Вероятно, вы знаете, что по так называемому «делу Хемингуэя» частично были преданы гласности ряд документов в США (127 страниц, остальные по-прежнему секретны? Сколько рассекретили у нас не знаю, не нашел информации. Знаю только, что Хемингуэй, кодовое имя «Арго», личное дело за номером 7501, был завербован на Кубе агентом Яковым Голосом (известным в США как Джекоб Голос — Jacob Golos), одним из наиболее успешных иностранных агентов советской внешней разведки. Хочу спросить вас, есть ли какие-то критерии, по которым писатель может сказать себе: «Тут я сотрудничаю со спецслужбами, а здесь — увольте», или это все романтика?
ДМ Я бы поостерегся доверять документам, связанным с КГБ: встречаются и фальшивки, и прицельная «деза». Что же до писателей, связанных с разведкой, то тут дело не столько в писателях — как правило, мастеров детективного жанра — сколько в самой разведке. В тоталитарных странах спецслужбы подчинены тирану и служат злу; сотрудничество с ними означает нравственную катастрофу. В свободных странах разведка и контрразведка придерживаются иных ориентиров. Без Службы внешней разведки («Мосад») и Общей службы безопасности («Шабак») Израиль был бы сегодня иным государством, если б вообще устоял в борьбе с внешними врагами и террором. Я никогда не работал в наших или с нашими спецслужбами, но мне повезло: я был знаком с директором «Мосада» генералом Меиром Амитом — двоюродным братом замечательного русского поэта Бориса Слуцкого, и Рафи Эйтаном — знаменитым оперативником «Мосада», поймавшим, в прямом смысле этого слова, Адольфа Эйхмана в Аргентине. Контакты с этими людьми расширили мое понимание роли секретных служб в жизни современного государства и обозначили рамки взаимодействия с ними людей со стороны.
АМ Вы один из немногих писателей, продолжающих традицию «охотничьего рассказа» — достаточно вспомнить ваши замечательные новеллы «Убить Марко Поло», «Старик, который забыл умереть», «По Старой английской дороге» и «Круглый стол в Бараньей долине». Ведь вышло так, что у Пришвина, Паустовского, Казакова в этом направлении последователей не оказалось. Какое впечатление произвели на вас рассказы Хемингуэя «На Биг-Ривер» (I) и «На Биг-Ривер» (II), «Снега Килиманджаро», «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»? Держали ли вы их в уме, когда писали свои «охотничьи рассказы»?
ДМ Это примеры блистательной прозы Мастера, которая и вывела его в первые ряды мировой литературы. У него можно учиться, но ему нельзя подражать, как и другим крупнейшим писателям — как гениальному Платонову, как Бунину. Надо подчеркнуть, что охота на зверя у Хемингуэя далека от экзотики. Охота у него — часть жизни, которая сложилась так, как она сложилась.
АМ Вам ведь пришлось и повоевать. Скажите, вспоминали ли вы на той уже далекой арабо-еврейской войне: «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол»?.. Или на войне такое не вспоминается, в силу того обстоятельства, что у каждого она своя?
ДМ Я люблю Хемингуэя, учился у него построению диалога. Я у него в долгу, а учителям надо возвращать долги! Одна из моих вещей о войне за Освобождение так и называется — «Здравствуй, оружие!»
Да, конечно, у каждого своя война, но война — единственная реальность в нашем воображенном мире. Я очень давно не перечитывал Хемингуэя, но образец его военной прозы, который я держу вблизи сердца и не отпускаю, — коротенький рассказ «Старик у моста», который он почему-то назвал очерком.
АМ Не сузил ли свое творчество Хемингуэй из-за незыблемого принципа — писать только о том, что видел, пережил, что хорошо знаешь?
ДМ Думаю, что напротив — расширил, и расширил безбрежно.
АМ Как у нас в России редко повстречаешь человека, который бы любил и Толстого, и Достоевского, так и в Америке кто-то любит Фолкнера, а кто-то Хемингуэя. Вам кто ближе?
ДМ Метод сравнения в жизни вообще, а в литературе в особенности — занятие сомнительное. А о Хемингуэе и Фолкнере, я бы сказал — «оба лучше».
АМ Какие из произведений Эрнеста Хемингуэя вы бы сейчас перечитали?
ДМ «Старик и море».
В 1930-е годы Хемингуэй был по-своему очень популярен
АМ В своей работе, посвященной роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» вы писали, что среди многочисленных факторов, влияющих на процесс перевода и определяющих его характер, не последнюю роль играют факторы идеологического порядка, и что цензурная история перевода романа «По ком звонит колокол» неоднократно становилась предметом исследований. Могли бы вы сказать, почему полная версия романа «По ком звонит колокол» у нас появилась лишь в 2015 году в переводе Ирины Дорониной? Что мешало издать книгу без купюр раньше?
Екатерина Кузнецова К сожалению, я не могу ответить точно, так как не занималась постсоветской историей перевода романа. Но мне кажется, виной тому может быть существующая в нашей культуре привычка воспринимать нашумевший советский перевод как канонический, практически как оригинал. Новый перевод в такой ситуации воспринимается чуть ли не как попытка «переписать классику». Об этой тенденции много говорит в своих работах и выступлениях Александра Борисенко (см., например, ее статью «Сэлинджер начинает и выигрывает» в седьмом номере журнала «Иностранная литература» за 2009 год, где она анализирует реакцию на новый перевод знаменитого романа Сэлинджера, выполненный Максом Немцовым). Понятно, что в случае с советским переводом романа «По ком звонит колокол» ситуация особая: все-таки в нем очень много цензурной правки. Однако одновременно с этим хороший, ясный, читаемый русский язык и слава переводчиц Н. А. Волжиной и Е. Д. Калашниковой (учениц И. А. Кашкина, столпов советской переводческой школы) все равно могла заставить воспринимать этот перевод как канонический. Но, повторюсь, это всего лишь гипотеза.
АМ Были ли другие переводы «Колокола», кроме известных нам?
ЕК Мне неизвестно о других переводах «Колокола». Но интересно, что в 1936 году в журнале «Знамя» выходил другой перевод романа «Прощай, оружие» (переводчик — П. Охрименко). И особенно интересно, что выходил он в одном и том же году с известным нам переводом Е. Д. Калашниковой («Гослитиздат»).
АМ В своей работе вы так же пишите о некоем «закрытом издании» «Колокола» в 1962 году в журнале «Иностранная литература». «Закрытое издание» в «открытом журнале»?! Для кого оно предназначалось?
ЕК Имеется в виду издательство «Иностранная литература», а не журнал. Эта редакция перевода вышла с грифом «Рассылается по специальному списку. №…» и тиражом всего 300 экземпляров, о ней упоминает Арлен Блюм в своей статье «Три цензурных эпизода из жизни «Интернациональной литературы» («Иностранная литература», 2005, № 10). Она была нужна для того, чтобы партийные чиновники могли ознакомиться с романом. Арлен Блюм даже приводит фрагмент предисловия к этому изданию: «…встречается ряд моментов, с которыми трудно согласиться. Так, например, обращает на себя внимание не совсем правильная трактовка образов коммунистов, бесстрашных и мужественных борцов с фашизмом в трудное для испанского народа время».
В 1943 году режиссер Сэм Вуд снял фильм по роману «По ком звонит колокол». Главные роли в нем сыграли Гэри Купер и Ингрид Бергман. Реакция критиков была неоднозначной. Босли Краутер из «Нью-Йорк таймс» считал, что «замечательный роман Хемингуэя о гражданской войне в Испании пришел на экран, сохранив яркость всех персонажей», а Герб Стерн из «Скрин» заявил: «Книгу так деликатно выпотрошили, что содержимое романа оказалось искусно спрятанным за политической и сексуальной стороной фильма. Картина слабо отразила жестокую реальность мира, в котором мы живем». Журнал «Тайм» подвел итоги: «Как бы ни пытались заглушить удар колокола, но надо признать, что двадцатисемилетняя шведская актриса ударила в него с такой силой, какой не было слышно с той поры, когда ее великая соотечественница Грета Гарбо очаровала полмира».
АМ Можно сказать, что долгое время, читая «Колокол» в переводе Н. Волжиной и Е. Калашниковой, мы имели лишь смутное представление об одном из главных романов Хемингуэя?
ЕК Я думаю, это все же будет преувеличением. Планы выпустить редакцию перевода Н. А. Волжиной и Е. Д. Калашниковой, действительно лишь очень отдаленно напоминающую роман Хемингуэя, были в 1941 году. Тогда публикацию готовил журнал «Знамя». Эта версия была очень сильно сокращена (из 43 глав остались 22, и это не считая многочисленных купюр в оставшемся тексте!) и адаптирована так, что в целом роман оказывался совершенно другим. Например, из всего командования республиканских войск единственным персонажем, пережившим цензурную правку, оказался Гольц, отдающий приказ Джордану. Причем та сцена, где он остался, тоже была сильно адаптирована: вырезаны многие его объяснения, сомнения в успешности атаки, упоминание военачальника, разработавшего план атаки. В итоге всех этих правок читатель вообще не должен был понять, что наступление в финале обречено на провал. Получалось, что Джордан умер, но, умирая, приблизил победу. Так вот, в переводческой редакции 1968 года, которая в итоге и стала официальной, много купюр и более мелких изменений, но все же нельзя сказать, что она дает только самое смутное представление о романе. На мой взгляд, то, что в переводе представить себе сложнее всего — это хемингуэевский стиль. Кстати, парадоксально, но в передаче стиля жестоко порезанная и в итоге не изданная версия 1941 года под редакцией Кашкина была ближе к оригиналу, чем версия 1968 года под редакцией Симонова. Например, Симонов-редактор сглаживает рубленые, отрывистые фразы, избавляется от конструкции «женщина Пабло» («the woman of Pablo», попытка передать особенность испанского языка, не различающего слов «женщина» и «жена»).
АМ Вы упомянули Константина Симонова. Какую роль в публикации романа «По ком звонит колокол» в СССР он сыграл?
ЕК Когда было решено публиковать роман, Симонов был назначен редактором и автором предисловия. В РГАЛИ сохранилось много вариантов правки вступительной статьи, которая предназначалась для несостоявшегося издания 1963 года. Симонову исправляют «русские» на «советские», редактируют пассаж о сыне Долорес Ибаррури, погибшем под Сталинградом, требуют добавить, что Советский Союз был главной антифашистской силой. Видно, что этому предисловию уделялось большое внимание, оно должно было быть идеологически правильным. В итоге Симонов же писал предисловие к четырехтомнику 1968 года. О какой-то иной роли Симонова в публикации мне неизвестно, но эта тема заслуживает дальнейшего исследования.
АМ Чем вы объясняете тот факт, что Хемингуэй к нам пришел далеко не сразу, долгое время он был кумиром лишь избранных, а его знаменитые «Фиеста», «Прощай, оружие!» до 1950−60-х годов не вызвали в СССР большого интереса у широкой читающей публики?
ЕК В целом в 1930-е годы Хемингуэй был по-своему очень популярен. Взять сам «Первый переводческий коллектив» под руководством Ивана Александровича Кашкина, на протяжении 1930-х годов непрестанно переводивший его новые романы и рассказы. О популярности Хемингуэя, о том, сколько он значил для ее поколения, о копиях «Колокола», ходивших по рукам в военное время, писала и Раиса Орлова в своей книге «Хемингуэй в России: Роман длиною в полстолетия» и в статье «Русская судьба Хемингуэя» («Вопросы литературы», 1989 № 6). То, что после перерыва, в 1960-х годов эта популярность стала более массовой, полагаю, связано с «оттепелью».
АМ Какое место сегодня занимает Эрнест Хемингуэй в сознании россиян? Можно сказать, что папа Хэм практически забыт?
ЕК Не думаю. Он не столь популярен, как, по свидетельствам, в шестидесятые годы, но его читают. Сама недавно обсуждала его с друзьями в читательском клубе.
АМ Какие из произведений Эрнеста Хемингуэя вы бы сейчас стали перечитывать?
ЕК Первой на очереди, наверное, будет «Фиеста»: кроме прочего, интересно будет параллельно прочитать оригинал и перевод Веры Топер.
Он был человеком, не рожденным для жизни в старости
АМ Готовясь к этому круглому столу, я сделал для себя неутешительное открытие, а именно: литературоведов-американистов, занимающихся творчеством Эрнеста Хемингуэя практически не осталось. О чем, на ваш взгляд, это говорит: пропал интерес к этому писателю в России?
Алексей Гвоздев Думаю, что да. Поскольку Хемингуэй является одним из самых изученных отечественным литературоведением зарубежных писателей XX века, то сейчас уже сложно сказать что-то новое, не повторяясь. Много ли вы знаете иностранных авторов, имеющих несколько изданий в серии «ЖЗЛ»? У Хемингуэя их два, Грибанов 1971 года и Чертанов 2010-го. Добавьте к этому работы Ивана Кашкина, главного поклонника американского писателя в СССР, и вы получите внушительный корпус серьезных научных и менее серьезных, журналистских, исследований. Кроме этого, творчество Хемингуэя не вызывает былого интереса и у читателей, это тоже сказывается на общей востребованности писателя.
АМ Но за последнее время вышло немало биографий Эрнеста Хемингуэя за рубежом. Одна из них — Мэри Дирборн «Эрнест Хемингуэй. Обратная сторона праздника», вызвала немало споров в среде «хемоведов». Читали ли вы ее? Как оцениваете?
АГ За рубежом — да, интерес к Хемингуэю не исчез. Но, тем не менее, взгляните, какого рода эти исследования. Очевидна попытка если не переписать общеизвестную биографию писателя, то взглянуть на нее по-новому. С Хемингуэем, кстати, это сделать несложно, поскольку он любил фантазировать на тему собственной жизни. Это бесконечный материал для изучения — попытка выяснить, что является правдой, а что — вымыслом в биографии американца. Например, уже в третьем абзаце первой страницы книги упомянутой вами Мэри Дирборн появляется вопрос: «Был ли Хемингуэй геем?». Понятно, что книга должна продаваться, а биография Хемингуэя это вовсе не то, на чем сейчас можно заработать, но, позвольте, зачем же так сразу и бесцеремонно заходить в спальню к писателю? Однако книга Мэри Дирборн интересна прежде всего тем, что являет собой сугубо женский взгляд на сугубо мужского писателя. Здесь же можно упомянуть вышедшее совсем недавно в русском переводе исследование Скотта Дональдсона «Хемингуэй vs Фицджеральд. Дружба и соперничество двух гениев» (в оригинале «Hemingway vs. Fitzgerald: The Rise and Fall of a Literary Friendship»), где приведен обширный эпистолярный материал, демифологизирующий сложившийся когда-то героически-непогрешимый образ Хемингуэя.
АМ Не так давно я прочел «Книгу алхимика» Адама Уильямса и в очередной раз подивился тому, какое же сильное влияние на англосаксонскую литературу оказал роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Как вам кажется, почему в СССР, при всей колоссальной любви к Хемингуэю, откладывали публикацию этого его романа, да и вышел он с большими купюрами? Чего так страшились партийные бонзы — охранители системы?
АГ Роман «По ком звонит колокол» вышел в 1940-м, а уже на следующий год был оперативно переведен на русский язык. Вроде, первые переводчицы книги, Калашникова и Волжина, даже получили приказ сверху срочно дать полную русскую версию романа. То есть перевод «По ком звонит колокол» стал делом государственной важности. Но выходил он какое-то время со значительными купюрами, да. Полную версию романа (хотя и с ужасными огрехами в переводе) советский читатель получил в 1968 году. Чего боялись? Видимо, сходства франкистов и НКВД, описания жесткости их методов. Ведь писателя обвинили в клевете на дело Испанской республики, а значит, это касалось и советских добровольцев Интербригад. Прямым текстом, конечно, у Хемингуэя об этом не сказано, но писатель не был в восторге от того, что увидел в Испании, и сталинизм он считал таким же злом, как и фашизм. Видимо, это заметил в романе и сам Сталин. Согласно легенде, запущенной Раисой Орловой в ее книге «Хемингуэй в России», Сталин на копии перевода романа написал: «Интересно. Печатать нельзя».
АМ Известно, что Хемингуэй родился в достаточно набожной семье. Со временем отношение к религии у «младшего состава» Хемингуэв стало меняться, в особенности у Эрнеста. В то же время следы семейной религиозности отчетливо заметны в творчестве Хемингуэя. Хотел поинтересоваться у вас, какое место занимает библейская символика в произведениях Хемингуэя? Вычитывается ли она сегодня молодежью? Ведь новым поколениям, воспитанным на иных культурных традициях, наверное, труднее уловить тонкий смысл художественных деталей произведений, имеющих в своей основе мифологические и библейские образы?
АГ Для меня самый религиозный текст Хемингуэя — повесть «Старик и море». Здесь довольно насыщенная христианская символика, не совсем этому писателю свойственная. И сорок дней, и аскеза главного героя, и интересные переклички с другим важным с точки зрения религиозности произведением англоязычной культуры — «Сказанием о старом мореходе» Колриджа. Кстати, отсылки к христианской мифологии в «Старике…» здорово показаны в экранизации этой повести режиссером Джадом Тейлором. Эпизод, где изможденный Сантьяго в финале несет на себе мачту, визуально повторяет сцену несения креста Христом, знакомую нам по картинам европейских художников. И от визуального сходства зритель переходит к смысловому.
Вероятно, в конце своей жизни Хемингуэй угодил в традиционную для писателей, да и обычных людей тоже, ловушку — стал религиозным. Не думаю, что эта неявная сторона его творчества сегодня «вычитывается» молодежью. Однако, возможно, я настроен слишком скептически.
АМ О произведениях Хемингуэя, опубликованных уже после его смерти — «Острова в океане» и «Праздник, который всегда с тобой» — некоторые американские критики высказывались в том смысле, что они-де не улучшили репутацию писателя, которая после его ухода стала неуклонно падать. А как считаете вы, готовы с ними поспорить?
АГ Во-первых, все это довольно субъективно. Но я согласен с тем, что поздние тексты Хемингуэя, прежде всего эти два произведения, которые вы назвали, вызывают наибольшее количество вопросов, а у некоторых даже недоумение. «Острова в океане» — прекрасный роман, но абсолютно не хемингуэевский. Этой книгой оказалась буквально предана целая армия поклонников американца, видевших в нем как раз маскулинного носителя кодекса чести и немногословного героизма. Не будем здесь вдаваться в детали, кто читал роман, отлично понимают, о чем речь.
«Праздник, который всегда с тобой» — замечательная книга для тех, кто доверяет папаше Хэму. Но если вам вздумается проверять текст на достоверность, если вы займетесь даже поверхностным фактчекингом, вас ожидает много удивительных открытий, прежде всего касающихся беспредельности хемингуэевской фантазии и его способности искажать правду.
АМ Какую роль в становлении писателя Эрнеста Хемингуэя сыграл Джеймс Джойс?
АГ Я думаю, что важную. Хотя став признанным писателем, Хемингуэй по своему обыкновению отрекался от кумиров юности и от тех, кто ему помогал, как это случилось с Гертрудой Стайн, Эзрой Паундом и даже Скоттом Фицджеральдом. Хемингуэй очень не любил зависеть от кого-либо, быть долгое время благодарным и должным. Помните, что он писал про ирландца: «Джойс выдумал сотни совсем новых штучек. Но от того, что они были новыми, они не делались лучше». Звучит как хула. И здесь идет речь явно об «Улиссе». Но если Хемингуэй и ценил Джойса как писателя, то за «Дублинцев». Сходства стиля Хемингуэя с этими рассказами гораздо больше, нежели с «Улиссом». Хотя мало кто из хороших молодых писателей первой половины XX века не испытал влияния Джойса.
АМ Известно, что Эрнест Хемингуэй состоял переписке с Эзрой Паундом, его, антифашиста, не смущали убеждения последнего, или в этом вопросе он делал скидку?
АГ Думаю, Хемингуэю было важнее отношение людей к нему, а не их убеждения. Особенно он любил, как и любой творческий человек, когда им восхищались. Паунд отмечал талант Хемингуэя, при этом будучи признанным авторитетом. Для Хэма это оказалось важнее политических взглядов старшего писателя.
АМ Как вам кажется, с чем связано то обстоятельство, что о чувствах, не доросших до любви, Хемингуэй чаще всего просто упоминает, а большую любовь, напротив, тщательно выписывает, раскачивает ради нее землю? Как это его самого характеризует?
АГ Любовь — это как раз та тема, за которой лучше обращаться к дружественному сопернику Хемингуэя Фицждеральду. Хемингуэй же здесь совсем неубедителен. Коррида, выпивка, охота, война, героизм — пожалуйста. Но любовные чувства у него описываются довольно формально, вне динамики развития. Часто она — любовь — дается уже готовой. «Стиль фальшивых волос на груди», как иронично выразился Макс Истмен, не позволяет Хемингуэю быть сентиментальным в описании отношений между мужчиной и женщиной. Любовное чувство у него обычно ясное, непоколебимое и простое. Характерная фраза, которую можно встретить практически в каждой истории любви по Хемингуэю: «они любили друг друга, потом ели и пили, затем снова любили друг друга, пока не заснули», что-то вроде этого. Четыре жены, случаи измен, периодически встречающиеся сексистские замечания (почитайте, что он говорил о браке) — Хемингуэй не похож на человека, которой отличался деликатным и романтическим отношением к женщине. То же мы находим и в его творчестве. Можем ли мы вспомнить яркий, глубокий, подробно воссозданный образ женщины в произведениях писателя? Едва ли. Женщина у Хемингуэя ничему не училась, нигде не бывала, мало что умеет. У нее одна функция — быть при мужчине, чтобы он ее периодически любил. Неудивительно, что женская читательская аудитория не очень жалует Хемингуэя. Некоторые даже не понимают, что «Прощай, оружие» — это, оказывается, «великая история любви», как было написано на суперобложке первого издания романа.
АМ Часть преданных гласности в США секретных документов по делу Хемингуэя намекает на то обстоятельство, что покрытое мраком исчезновение четы Хемингуэев с острова Куба, как и приписанное Хемингуэю маниакальное состояние и его лечение электрошоком (более тридцати сеансов) в лечебнице братьев Майо — все это, как и многое другое, доказывает неоспоримый факт: за самоубийством Хемингуэя стоял сам Эдвард Гувер, директор ФБР. С другой стороны, нельзя отрицать и того факта, что Хемингуэй в последние годы переживал острый творческий кризис, хотя по книге «Праздник, который всегда с тобой», над которой он работал, этого не скажешь. На протяжении долгих лет он был для всего мира Папой Хэмом и вот, похоже, надорвался, не смог смириться со старостью, немощью и предпочел остаться непобедимым, как и многие герои его рассказов и романов.
АГ Знаете, я однажды поймал себя на мысли, что Хемингуэй — единственный известный мне писатель, Художник вообще, переживать из-за самоубийства которого у меня не получается. У него идеальная биография. Он всегда был востребован как автор и многое успел, не знал горечи забвения, был богат, красив и дьявольски здоров, его любили потрясающие женщины, восхищались и завидовали мужчины, он объездил весь мир, был знаком с выдающимися людьми своего времени, молодость провел в лучшем городе на свете, а остальную часть жизни на берегу океана. Чего еще желать? Хемингуэй, видимо, желал продолжения молодости. Именно в этом мне видится главная причина его добровольного отречения от жизни (о вмешательстве ФБР и ЦРУ в жизнь писателя я говорить не берусь, здесь много беллетристики и темных мест).
Страх старости, физической и психической неполноценности преследовал Хемингуэя последние годы. Он был человеком, не рожденным для жизни в старости. По крайней мере, так ему казалось. Его слова: «Настоящий мужчина не может умереть в постели. Он должен либо погибнуть в бою, либо пуля в лоб». И Хэмингуэй свое слово сдержал. Мы знаем, что у писателя была не одна попытка самоубийства. То есть это было не импульсивное действие, не состояние аффекта, а обдуманное, выношенное решение. Своеобразной попыткой примирения с собственной старостью можно считать повесть «Старик и море». Старый рыбак Сантьяго, немощный телом и сильный духом, помимо прочего, воплощает самого автора, попытку обрести нового себя в новом состоянии. Но то, что удалось персонажу, не получилось у его создателя. По поводу «Праздника, который всегда с тобой» — хорош он или плох. Это все же не совсем художественная литература, а мемуары. Скорее, беллетризованная автобиография. А среди писателей существует такое мнение: когда автор не придумывает ничего нового, а начинает вспоминать свое прошлое, значит — ему больше нечего сказать.
АМ Какие из произведений Эрнеста Хемингуэя вы бы сейчас стали перечитывать?
АГ Это самый трудный вопрос из тех, что вы мне задавали. Хемингуэй уже столько раз весь прочитан… Скажу, что я читал последний раз, и не с профессиональной целью, а, что называется, для себя. Это рассказ «The Three-Day Blow». (Трехдневная непогода.)
Похожие подборки
-
Позвонить -
СообщенияУ вас пока нет сообщений! -
Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -
0
ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -
0
КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас
Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.
Не знаете, что почитать?
- Доставка и оплата
- Сертификаты
- Рейтинги
- Новинки
- Скидки
-
+7 499 920-95-25
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
-
Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта
- Контакты
- Поддержка
- Главное 2026
- Все книги
- Билингвы
- Книги для детей
- Комиксы, Манга, Артбуки
- Молодежная литература
-
Нехудожественная литература
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»
- Все книги жанра
- Бизнес. Экономика
- Государство и право. Юриспруденция
- Домашние ремесла. Рукоделие
- Домоводство
- Естественные науки
- Информационные технологии
- История. Исторические науки
- Книги для родителей
- Коллекционирование
- Красота. Этикет
- Кулинария
- Культура. Искусство
- Медицина и здоровье
- Охота. Рыбалка. Собирательство
- Психология
- Публицистика
- Развлечения. Праздники
- Растениеводство
- Ремонт. Строительство. Интерьер
- Секс. Камасутра
- Технические науки
- Туризм. Путеводители. Транспорт
- Универсальные энциклопедии
- Уход за животными
- Филологические науки
- Философские науки. Социология
- Фитнес. Спорт. Самооборона
- Эзотерика. Парапсихология
- Периодические издания
- Религия
-
Учебная, методическая литература и словари
- Назад в «Книги»
- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»
- Все книги жанра
- Вспомогательные материалы для студентов
- Демонстрационные материалы
- Дополнительное образование для детей
- Дошкольное обучение
- Иностранные языки: грамматика и учебники
- Книги для школы
- Педагогика
- Подготовка в вуз
- Пособия для детей с ограниченными возможностями
- Словари и разговорники
- Художественная литература
- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии
- Все книги на иностранном языке
- Книги на английском языке
- Книги на других языках
- Книги на испанском языке
- Книги на итальянском языке
- Книги на китайском языке
-
Книги на немецком языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на немецком языке
- Классическая литература на немецком языке
- Курсы изучения языка
- Литература на немецком языке для детей
- Нехудожественная литература на немецком языке
- Современная литература на немецком языке
-
Книги на французском языке
- Назад в «Иностранные»
- Все книги в жанре «Книги на французском языке»
- Все книги жанра
- Адаптированная литература на французском языке
- Графические романы на французском языке
- Классическая литература на французском языке
- Курсы изучения языка
- Литература на французском языке для детей
- Нехудожественная литература на французском языке
- Современная литература на французском языке
- Комиксы и манга на иностранных языках
- Все игрушки
-
Детское творчество
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Детское творчество»
- Все товары раздела
- Алмазные мозаики
- Витражная роспись
- Гравюры
- Другие виды творчества
- Конструирование из бумаги и другого материала
- Лепка
- Наборы для рукоделия
- Наклейки детские
- Панч-дыроколы фигурные
- Работаем с воском, гелем, мылом
- Работаем с гипсом
- Работаем с деревом
- Скрапбук
- Сопутствующие товары для детского творчества
- Творческие наборы для раскрашивания
- Фрески
-
Игры и Игрушки
- Назад в «Игрушки»
- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»
- Все товары раздела
- Все для праздника
- Головоломки
- Детские сувениры
- Детские часы
- Другие виды игрушек
- Игрушка-антистресс
- Игрушки для самых маленьких
- Игры для активного отдыха
- Игры с мишенью
- Книжки-игрушки
- Конструкторы
- Куклы и аксессуары для кукол
- Кукольный театр
- Магнитные буквы, цифры, игры
- Машинки и Транспорт
- Мягкие игрушки
- Наборы для тематических игр
- Настольные игры
- Научные игры для детей
- Пазлы
- Роботы и трансформеры
- Ростомеры
- Сборные модели
- Слаймы
- Фигурки
- Электронные игры
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все канцтовары
-
Аксессуары для книг
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»
- Все товары раздела
- Закладки для книг
- Глобусы
-
Обложки для документов
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Обложки для документов»
- Все товары раздела
- Другие обложки
- Конверты для путешествий
- Обложки для автодокументов
- Обложки для зачетных книжек
- Обложки для паспортов
- Обложки для пенсионных удостоверений
- Обложки для проездных билетов
- Обложки для студенческих билетов
- Чехлы для карт, обложки для пропусков
- Офисная канцелярия
- Папки, скоросшиватели, разделители
-
Письменные принадлежности
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»
- Все товары раздела
- Карандаши черногрифельные
- Ручки
- Принадлежности для черчения
-
Рисование
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Рисование»
- Все товары раздела
- Аксессуары для рисования
- Инструменты и материалы для каллиграфии
- Карандаши цветные
- Кисти
- Краски
- Линеры для творчества
- Мелки
- Наборы для рисования
- Палитры, стаканы-непроливайки
- Папки для чертежей и рисунков
- Пастель
- Тушь, перья
- Уголь художественный
- Фломастеры
- Холсты. Мольберты
- Сумки
-
Товары для школы
- Назад в «Канцтовары»
- Все товары в разделе «Товары для школы»
- Все товары раздела
- Веера, счетный материал, счетные палочки
- Другие виды школьной канцелярии
- Канцелярские наборы
- Косметички, кошельки
- Ластики
- Мешки для обуви
- Ножницы школьные
- Обложки для тетрадей и книг
- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда
- Пеналы
- Пластилин
- Подставки для книг
- Рюкзаки, портфели
- Точилки
- Фартуки. Клеенки для уроков труда
- Школьная бумажно-беловая продукция
- Школьные наборы, подставки, органайзеры
- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии
- Все CD/DVD
-
Аудио
- Назад в «CD/DVD»
- Все товары в разделе «Аудио»
- Все товары раздела
- Аудиокниги
- Музыка
- Религия
- Видео
- Софт
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Все сувениры
- Календари
-
Сувенирная продукция
- Назад в «Сувениры»
- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»
- Все товары раздела
- Альбомы, рамки для фотографий
- Воздушные шары
- Детские сувениры
- Значки и медали
- Конверты для денег
- Магниты
- Новогодние сувениры
- Открытки
- Пакеты подарочные
- Подарочная упаковка
- Подарочные сертификаты
- Постеры и наклейки
- Праздничные аксессуары
- Таблички и статусы для рабочего стола
- Шкатулки
- Другое
- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии
- Весь клуб
- Журнал
-
Скидки и подарки
- Назад в «Клуб»
- Акции
- Бонус за рецензию
-
Только у нас
- Назад в «Клуб»
- Главные книги
- Подарочные сертификаты
- Эксклюзивы
- Предзаказы
-
Развлечения
- Назад в «Клуб»
- Литтесты
- Конкурсы
- Дома с детьми
-
Лабиринт — всем
- Назад в «Клуб»
- Партнерство
-
Приложения Лабиринта
- Назад в «Клуб»
- Apple App Store
- Google Play
- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.