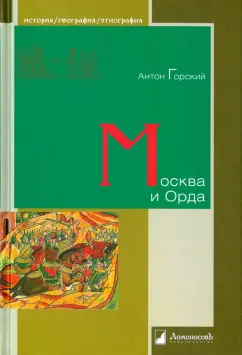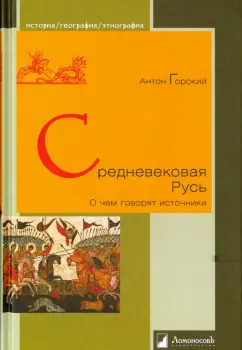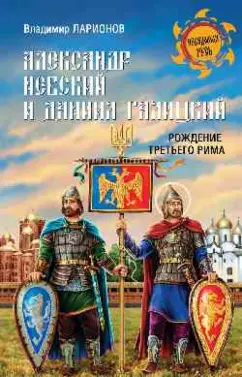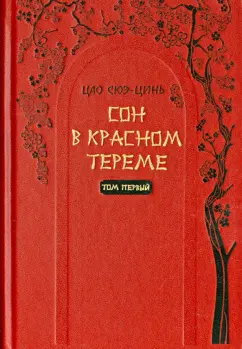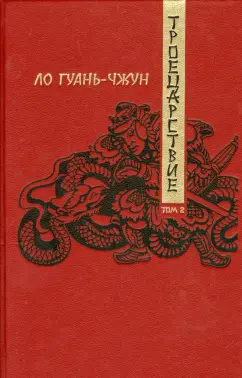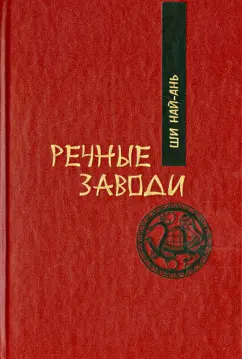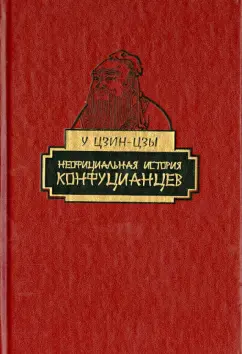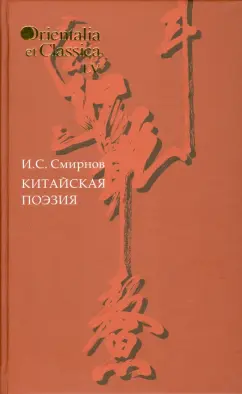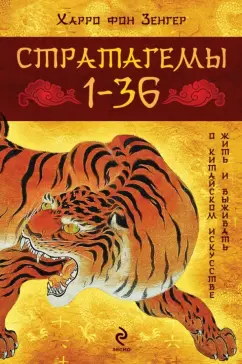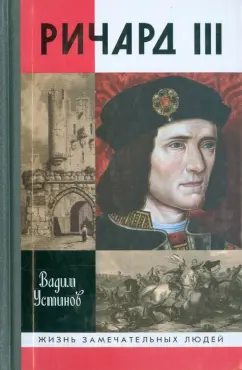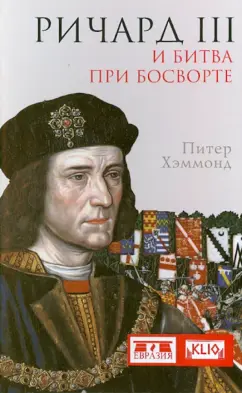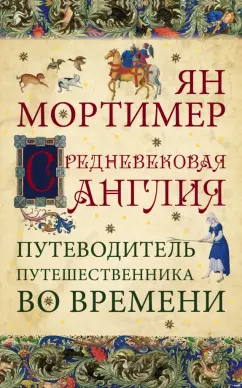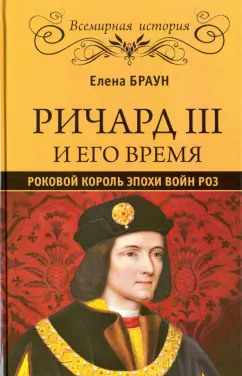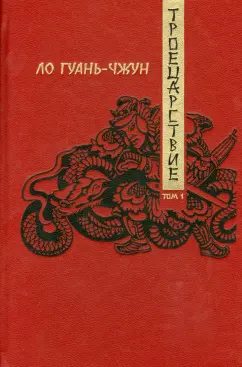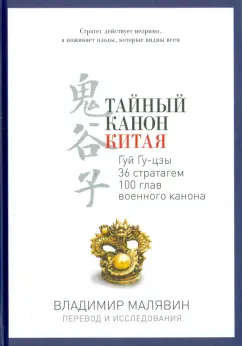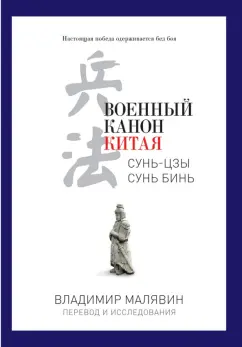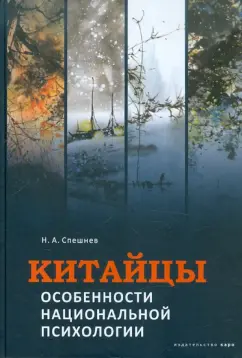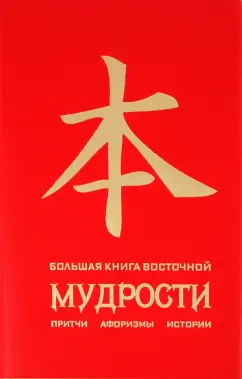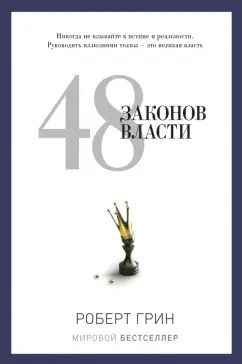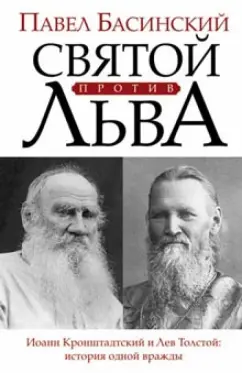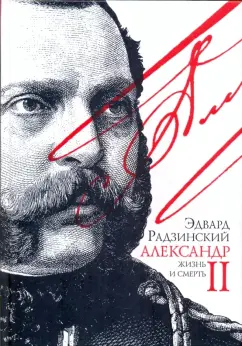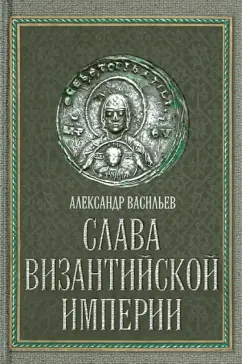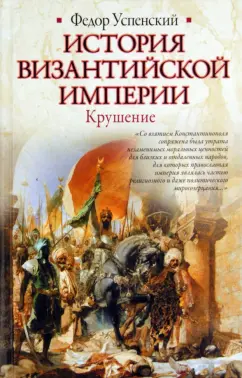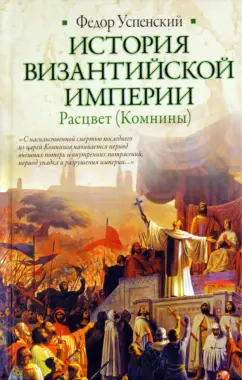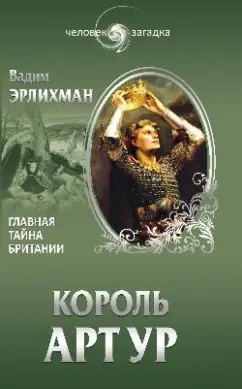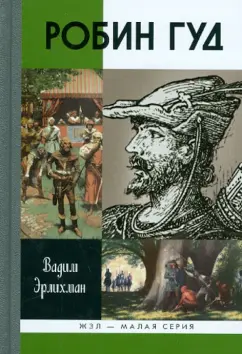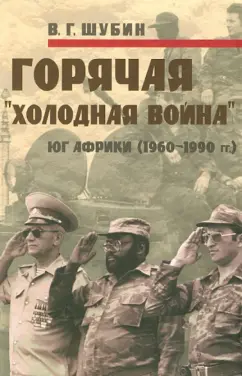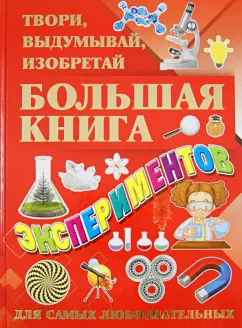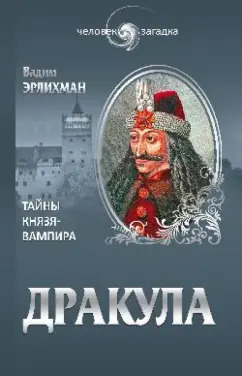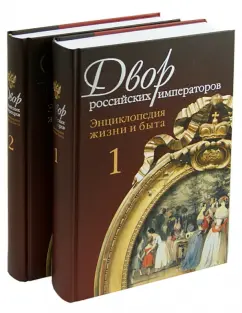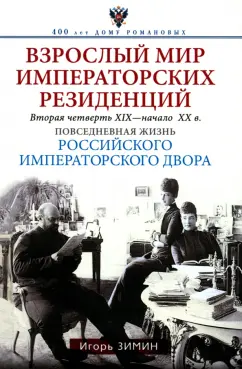| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |
| Символическая история европейского средневековья | +66 |
| Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды | +56 |
| Московская экскурсия | +51 |
| Сталинград | +42 |
| Сон в красном тереме Том 1. Роман в 2-х томах | +32 |
Серия ПОТРЯСАЮЩАЯ! Это введение в мир преданий и легенд, классических сюжетов мифологии с прекрасными иллюстрациями, от которых веет волшебством. Всего более 20 книг.
Серия издавалась во второй половине 90-х годов, и с тех пор подросло новое поколение, которое с таким же восторгом будет читать и рассматривать эти сказочные книги. Поэтому большая просьба к издательству: ПЕРЕИЗДАЙТЕ!
Книга охватывает период с 1870 года до наших дней и посвящена самым громким и загадочным преступлениям, случившимся в столице Франции во всех её двадцати округах; пятьдесят историй, порой их героями становились известные люди, порой — преступления обессмертили их имена. И все они показательны. У Франции особая криминальная культура. Думаю, книга поможет понять то, порой весьма странное для нас, отношение французского общества к преступности, терроризму и властям.
Признаюсь, пару раз меня...
Ждем всю серию о брате Кадфаэле и Хью Берингаре! Она издавалась на русском более десяти лет назад той же Амфорой в том же переводе. Не сомневаюсь, эти книги найдут поклонников. В данном издании третий и четвертый романы цикла из 20 историй, в центре которых наблюдательный и умный бенедиктинский монах валлиец Кадфаэль, много повидавший на своем веку и на склоне лет посвятивший себя Господу. Это такой средневековый отец Браун, к тому же живущий среди монашеской братии, что накладывает свои...
Не помню кто — кажется, Переслегин — в одной из своих книг предсказывает появление в будущем на Земле новых разумных видов; среди них упоминаются и домашние животные. Что ж, они ещё не стали разумными, а среди них уже есть выдающиеся личности. И кот Боб, несомненно, одна из них!
Мне книга не понравилась.
Но не с фактологической стороны. Наоборот: использованные документы и научные источники делают ценность работы бесспорной. В этом смысле чтение интереснейшие, особенно, когда дело доходит до ХХ века: до истории создания фильма Эйзенштейна или подробно описанных дискуссий о роли Александра Невского в советском пантеоне. (Хотя некоторые факты и суждения автора вызывают вопросы). Следует согласиться с тем, например, что наши представления о святом князе достаточно...
Всем любителям китайской литературы, и не только им, рекомендую эту прекрасную интереснейшую книгу!
Если "Сон в красном тереме" можно назвать энциклопедией быта китайцев, то "Неофициальную историю конфуцианцев", пожалуй, можно считать энциклопедией социальной жизни Китая XVI-XVIIIвв. Книга блестяще описывает все слои общества Поднебесной, от аристократов и военных до актеров и крестьян; подробно иллюстрируя нравы и взаимоотношения самых разных людей в различных жизненных ситуаиях.
В центре...
Довольно-таки специализированная книга, требующая от неспециалиста вдумчивого чтения, за что он будет вознагражден лучшим пониманием не только китайской поэзии, но и всей китайской цивилизации. Зато собственно поэзия занимает не менее половины объёма издания, так что оно будет интересно и любителям китайской лирики.
Китайская поэзия столь многогранна, что любые её переводы, по большому счету, обречены на неудачу. Тем не менее, понять глубинный смысл и оценить изящество форм хочется — хотя бы...
Мне давно хотелось понять, что стояло за фразой Трумена о американской политике во Второй Мировой: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше".Почему США все-же вступили в войну и почему против Гитлера? Мне их выбор никогда не казался очевидным.
Книга Пауэлса не содержит первоисточников и свидетельств. Просто в ней собраны результаты критических исследований...
Как часто бывает в китайских романах, где повествование ведётся, что называется, "с сотворения мира", основное действие начинается во второй части произведения. За это время читатель успел узнать героев и все, что с ними происходит, воспринимает как если бы речь шла о его друзьях и знакомых. Во второй части на семейство Цзя, как снег на голову, валятся несчастья. Нельзя сказать, что они совсем неожиданны для внимательного наблюдателя, какими и стали читатели, благодаря таланту...
После безобразно изданного "Наукой" "Троецарствия" покупка "Сна..." представляла некий риск. Однако, на удивление, здесь все оказалось пристойно. Вменить издательству можно, разве что, убогое оформление, ибо от эталонного издания 1958г. остался только текст, без китайских литографий с основными персонажами эпопеи. Опечаток нет! Ну, или почти нет: в сравнении с "Троецарствием" небо и земля.
Красная бумвиниловая обложка с черно-золотым тиснением, два...
Очень хорошо помню этот роман еще с начала 90-х. Он произвёл на меня сильное впечатление! Вообще говоря, повесть о Предательстве и Раскаянии. На фоне исторических событий XVI века и судьбы князя Андрея Курбского роман поднимает вопрос: где русскому хорошо — жить на чужбине или умирать на родине? Психологически глубоко достоверно автор анализирует судьбу беглого вельможи, и анализ этот останется актуален, пока из России будут уезжать такие, как Курбский.
Князь Курбский бежит в Речь Посполиту,...
Можно ли сказать, что Гуй Гу-цзы и Военный канон в ста главах повторяют мысли Сунь-цзы или это новое слово в искусстве войны и управления? Ни то, ни другое. И одновременно и то, и другое.
На мой взгляд, суть в трактате о Тридцати шести Стратагемах, который содержится в этом сборнике. Авторы размышляли не о философии войны, а, скорее, о её алхимии. О том, какие тайные механизмы и скрытые причины можно задействовать в тех или иных случаях, чтобы добиться цели. С легендарным Сунь-цзы они схожи в...
Потрясающая книга!
"Человек от рождения по природе добр. По сути своей все люди близки. Но чем дольше живут, тем дальше один удаляется от другого в зависимости от того, насколько они перенимают дурные привычки."
"Старание приносит успех, праздность кончается пустотой."
Все, с чего начинается Родина. Без неё не понять Китай.
Она у меня теперь настольная вместе с творениями самураев Дайдодзи и Ямамото . Раскрывая её произвольно, я каждый раз нахожу пищу к...
Познакомиться с этой очень английской по духу и стилю книгой мне довелось на языке оригинала лет пять-семь назад. Мои впечатления от времени несколько скомкались, но рискну поделиться ими.
Читая Трэверс — так же как заметки о Советской России Экзюпери — не могу отделаться от ощущения, что смотрю их глазами на калейдоскоп, осколки в котором если и складываются во что-то, то во что-то нереальное. Это и очень глубокие наблюдения и очень поверхностные выводы, выводы “белого человека“. Да, он...
До недавнего времени тем, кто интересуется жизнью Ричарда III, приходилось читать о нем на английском языке. Приятно констатировать, что ситуация изменилась, и книга Елены Браун — удачное начало.
Первый блин не вышел комом. Книга заслуживает большего тиража, чем 500 экземпляров! Выбирая между ней и ЖЗЛ Устинова, тот, кто хочет получить компетентную и подробную информацию о последнем короле из династии Плантагенетов, должен остановиться на работе Елены Браун. Это наиболее качественный и...
Субъективно: мне книга Елены Браун понравилась больше.
Да простят мне резкость, буде она есть в моём отзыве, но я лет двадцать так или иначе занимаюсь Ричардом, посему полагаю себя вправе на некоторые вольности. Итак.
Смешанное чувство от того, что ЖЗЛ публикует биографию Ричарда III... До этого такой чести удостаивались лишь несколько английских монархов: Ричард Львиное Сердце, Елизавета Тюдор, Виктория и Вильгельм Завоеватель.
К сожалению, книга получилась сыровата: многие события...
Если есть на свете человек, никогда не сидевший за компьютером и не державший в руке мышь, то самоучители Левина для него.
После примера, свершившегося прямо на моих глазах, когда именно такой человек превратился в шустрого юзера, я книгам Левина доверяю больше всяких курсов. Покупая эту книгу, Вы получаете очень хорошую, толковую «инструкцию пользователя». В отличие от прочих компьютерных самоучителей, содержащей информации не больше, чем в "Центре справки и поддержки" на...
Что такое стратагемы? "Дайте нам пройти и мы завоюем Го" - то, чего боялась Польша, не давая коридор для войск Советского Союза во время Мюнхенского кризиса. "Обмануть небо и переплыть море" - так поступал Гитлер постоянно откладывая нападение на Францию (и на СССР), благодаря чему агрессия получилась неожиданной.
В чем заключается главное отличие в понимании стратагем на Востоке и Западе? В том, что для западного человека это ложь и обман (в лучшем случае военная...
Подробная и интересная книга. К тому же это объективное исследование важной сферы жизни дореволюционной России, а не панегирик. Из множества фактов выстраивается цельная картина истории, развития и деятельности императорских благотворительных организаций. На мой взгляд, это одна из лучших работ Зимина и Соколова, ибо затрагивает не только российских монархов, но их участие в социальных проблемах российского общества.
Благотворительность в царской семье складывалась из православной культуры...
Честно говоря, приобретя тут на днях «Путешествие на запад» в классной тканевой обложке, я начинаю думать, что спартанский стиль «Науки» все же неплох: с эннеагоновских тканых томов слетает краска и позолота как листья с деревьев поздней осенью. А с этими ничего не сделается. Тем более, что «Троецарствию» у меня грозит быть зачитанным до дыр.
Издание добротное, но издали выглядит лучше, чем вблизи. Книга продается комплектом, два тома увеличенного формата, тяжелые, тонкая белая бумага. Четкий...
Неплохая разносторонняя подборка о Сталине. Каким он был в глазах различных людей от родственников, до зарубежных политиков. Как жил, что ел, как его охраняли. Даже есть глава про баню со Сталиным.))) Прямой речи, как мне показалось, маловато – больше пересказ составителя. Соответственно, и уровень, скорее, журнально-газетный. Не впечатлило.
Бумага желтая, газетная, иллюстраций нет.
Джеймс убивает очарование и таинство романа. Почему-то вспоминается атмосфера "семейной консультации" - что-то вроде совета супругам: "Представьте, что и ваши любимые герои оказались в подобной ситуации". При этом она забывает, что двести лет назад нравы были патриархальнее, а "Гордость и предубеждение" написаны с ЖЕНСКОЙ позиции. У Джеймс, наоборот, главный герой Фицуильям Дарси, и читатель видит его взгляд на происходящее гораздо чаще, чем само происходящее...
Поздравляю! Замечательная новость! Действительно, лучший магазин!
Вы проделали такую работу с сайтом, что при выборе книг возникает ощущение присутствия в настоящем книжном и листания страниц!
Акции и система доставки в регионе – выше похвал. Хороший ассортимент – хотя тут есть что усовершенствовать.
Я в Лабиринте уже четыре года, за это время было и плохое и хорошее. Но хорошего больше: все книги, купленные за это время, приобретены в Лабиринте. Покупаем и для знакомых, и на подарки....
Морис Дрюон один из тех редких писателей, которые оживляют историю, делают ее почти современными событиями, реконструируют то, чего мы своим замыленным зрением не увидели бы. Без него история Франции была бы неполной. Но и многие легенды он запустил в оборот. Например предание о жалобах киевской княжны Анны Ярославны, ставшей женой французского короля – куда, мол, ты отправил меня, отец, здесь живут одни варвары – впервые появляется именно на страницах этой книги. Впрочем, и без них история...
Да простят мне эти слова, но как можно читать «Войну и мир», когда есть «Троецарствие»!
Да, такую книгу за такие деньги… Можно было издать и получше. Обложка дешевый бумвинил, оформление более чем скромное, маркий шрифт. Текст печатается по полному изданию 1954г., тираж, как утверждает интернет, 1000экземпляров.
Мне, конечно, грех жаловаться – прочитав эту книгу в распечатке на рассыпающихся листах формата А4 и влюбившись в нее, я испытываю дикий восторг, наконец-то получив ее хоть в таком...
Саймон Бекетт является самым популярным детективным английским писателем потому, что он очень «английский» писатель. Думается мне, еще и потому, что использует в своем творчестве узнаваемые английские сюжеты. Это и доктор Джекил с мистером Хайдом, и собака Баскервилей и даже сюжет современного английского сериала «Комнаты смерти», обыгранный в «Шепоте мертвых» почти дословно. У него есть все, что читатели хотят встретить в классических английских детективах. Даже дождь, что почти не переставая...
«Настоящая победа одерживается без боя», гласит основополагающая мудрость великого трактата «Искусство войны», вынесенная на обложку этого издания.
Прекрасная книга! (В более полном варианте она выходила еще в 2001 году под названием «Китайская военная стратегия» в изд-ве АСТ.)
Во-первых, "Искусство войны", классический текст, который Владимир Малявин, известный китаевед и исследователь мудрости Поднебесной, дополнил и переработал, обратившись к нескольким десяткам древнейших и...
Тот Энтони Бивор, который «просветил» мир насчет 2 миллионов немок, изнасилованных советскими солдатами? Нет уж, спасибо.
На мой взгляд, авторов и книги, переходящих уж всякие рамки приличия относительно нашей страны, следовало бы бойкотировать, а не издавать. Тем более, если это, по сути, беллетризованное чтиво, а не серьезный исторический труд.
Что до этой книги, то она, действительно, о «героическом поражении» немцев и о непонятно как победивших русских.
Обзорная работа Мишеля Пастуро дает возможность по-новому взглянуть на историю европейского Средневековья. Более того, без ее прочтения наши знания о этом времени не будут полными.
Книга входит в топ-5 рекомендуемых к прочтению по истории Средневековья по версии сайта Постнаука: «Читая книгу Пастуро, мы пока остаемся в сфере воображаемого и рискуем так и не дойти до традиционной политической и экономической истории. Впрочем, вполне вероятно, что представления о чистоте и нечистоте, грешности...
Очень, очень плохо, что издательство не планирует переиздавать серию! Если не всю, то хотя бы последние, самые редкие книги, которые трудно найти даже у букинистов (или цена на них доходит до 7000руб).
Книга написана простым вдумчивым языком, а читается легко. Да и сам роман небольшой. Но ему удалось вместить очень многое.
Здесь описаны события последних двух дней процесса над Дантоном. О ком книга? О людях. А вот о ЧЕМ, сразу не определить. Это истории людей, реальных людей, связанных с происходящими событиями. Многим из них предстоит принять решения, от которых зависят их собственные судьбы, переплетенные и с судьбой революции. У каждого свои мотивы, свои критерии совести и свой взгляд...
Ну, пожалуй, не жалею о покупке. Кое-какое зерно книга содержит.
Уровень антисоветчины не зашкаливает, укладывается в «хрущевскую норму». Книга интересна прямой речью очевидцев – немцев, живших при нацизме и рассказывающих, что они думали тогда о евреях, коммунистах, войне или Гитлере. И попытках автора разобраться в стиле управления Адольфа Гитлера. По мысли Л.Риса, именно его отличием от общепринятых «цивилизованных» стандартов объясняется первоначальный успех Гитлера как политика.
С...
И вот именно сейчас стали такие книги появляться. Или мы просто стали на них иначе реагировать? Не та ли это пятая колонна? Или это ответ Мединскому? Россия между ангелом и бесом, между востоком и западом, между тиранией и демократией, а где уж тут добро, где зло, каждый волен решать сам. Для тех, кто знает отечественную историю, ничего такого неизвестного, а тем более, специально скрываемого в книге нет. Но, с другой стороны, тот, кто историю знает, такие книги читать не будет.
На мой взгляд,...
Книга - переиздание вышедшей в 2010г. работы С.А.Экштута «Россия перед голгофой» и, по сути, в ней автор размышляет, почему после отмены крепостного права и стремительной модернизации Россия не пошла по пути западноевропейских стран, в которых пришедшая на смену дворянству буржуазия построила процветающую экономику и цивилизованное общество, а пришла к совершенно иному результату - революции. По мнению автора, одной из важнейших причин явились «побочные эффекты» преобразований 1861 года....
Две работы А. Васильева, выдающегося русского историка-византиниста, автора лучшей, по мнению многих, истории Византийской империи, освещают века упадка Константинополя и ту роль, какую сыграла в этом процессе западная, католическая, Европа. Роль эта была не так мала и не так однозначна.
Изданные в 1923 и 1925 г.г., работы представляют собой прекрасный образчик дореволюционной русской исторической школы: замечательный легкий живой язык, анализ, обилие фактов, запоминающихся исподволь. Двести...
Заче-е-ем!?!
Зачем издеваться над классикой?!
Потрясающая книга! Такой впечатляющий сплав художественного полотна с объективностью и обилием фактов редко доводится встречать! Очень хороший исторический труд, после которого даже Ремарк понимается по-другому. Автору удалось создать «эффект очевидца» -- он рассказывает о событиях так, словно сам все видел и слышал приводимые цитаты из уст их авторов. Сколько будете читать, столько и проживете в атмосфере тех дней, «когда каждая мысль, каждое событие… наносили сокрушительный удар по царившему...
Книга хорошо соответствует двум целям: введению в миф, археологию и написанию рефератов. Доступный язык и краткое описание основных мифологических сюжетов, их сходство у различных народов, общее происхождение, происхождение от древних ритуальных практик и отголоски в коллективном бессознательном наших дней. Аннотация на сайте, на мой взгляд, преувеличивает информационную ценность книги. К тому же, если убрать широченные поля, книжка станет меньше вдвое. Задумка неплохая – понятно и увлекательно...
Борис Соколов, историк и литературовед, чья деятельность по освещению истории Великой Отечественной войны оценивается неоднозначно, кроме того специализируется на творчестве М.А.Булгакова. В этой книге он попытался осветить личную жизнь писателя. По сути, это творческая биография. Самих жен и личную жизнь Булгакова видно плохо; они появляются только тогда, когда пересекаются с его литературной деятельностью. Не понравилось, что многие вещи и поступки автор объясняет даже не психологическими, а...
По мнению Вадима Эрлихмана, Влад Цепеш стоит в одном ряду с Иваном Грозным и Пол Потом– людьми, решившими ценой жестоких репрессий заставить народ изменить к лучшему свою жизнь. Как всегда, если они чего и добились, то вовсе не своей главной цели.
Впрочем, на фоне Европы XV века Влад Дракула, вообще говоря, не выглядит исчадием ада; у него были высокие принципы, о которых помнит народное предание:))).
В. Эрлихман в своей работе рассказывает, почему именно этот исторический деятель произвел...
Давно ищу хорошую книгу по непростой теме партизанской войны. Не скажу, что это – то самое, но книга произвела на меня впечатление. Написана на базе предыдущей работы В. Кучера «Партизаны Брянщины: мифы и реальность»: примерно половину нового издания составляют материалы из первой работы. Кучер описывает историю партизанских отрядов, созданных в г. Бежица (Орджоникидзеград в годы войны). Он задействует документы из российских военных архивов, личные архивы и воспоминания партизан, работы...
Будущий легендарный фельдмаршал Эрвин Роммель провел на полях Великой Войны три с лишним года. Франция, Румыния, Карпаты, Италия. Да, он не был в самых значительных битвах вроде Марны и Вердена, но его записки и впечатления очень точно и емко отражают рутину боевых действий – то из чего сложились четыре года I Мировой. Но главная ценность его книги не в этом.
Во времена Веймарской республики и после прихода нацистов к власти Роммель командовал пехотным полком и преподавал — сперва в...
Добросовестная выверенная книга. Не сказать, что из нее можно узнать много нового, но первичные знания для всех интересующихся дает, причем, знания качественные. О американских военно-политических действиях по всему миру говорится не меньше, чем о советских, создается четкая картина противостояния.
Из содержания ясно, что автор оставил за кадром историю советского военного и политического присутствия в Африке. Назвать книгу полной энциклопедией несколько неверно, да и сведения в ней отражают...
Уже раз пять мы дарили эту инструкцию по устройству познавательных бесчинств!
Мальчишки от семи и до одиннадцати лет неизменно остаются довольны. Все можно сделать одному или с друзьями своими руками, узнать, как это работает и где в большом мире еще можно встретить устроенное по такому же принципу
Также очень удобно, когда не можешь объяснить на пальцах чаду примитивный закон физики, биологии или химии. А уж если книжка доказывает вред от Пепси – однозначно, надо брать!
Конечно, это любовный роман. Но в нем Настоящая Любовь. Настоящие Мужчина и Женщина. И волшебный кельтский мир встречается со славянским. Только из Страны Лета могут быть такие воины. Дружина – ирландские фении. Гейсы вождя – это гейсы Кухулина, героя ирландских саг. Спата – кельтский меч. Но только в России бывают такие женщины, которые умеют ждать как никто другой. И отстоять свою любовь у смерти.
Когда Семенова писала «Валькирию», у нас еще мало знали и про кельтов и про язычество славян,...
Хотя книга издана в 2007 году, она посвящена и позволяет понять многие долгосрочные тенденции на Ближнем Востоке. А в последние годы мы становимся очевидцами того, что лишь подтверждает тезисы автора. Так что, почитать ее полезно, даже несмотря на то, это филиппика в адрес США и мировой финансовой закулисы. Хорошо, что есть такие крепкие злые книги, какие были в Советском Союзе.
Это не описание иракской войны, которая длится уже 10 лет, и о которой впору писать серьезную историю, как о...
Хорошая книга, в которой рассматривается вся современная панорама воззрений на этиологию, патогенез, классификацию и лечение болезней ЖКТ.
Как всегда, качество издания хорошее, но обложка мягкая и клееные страницы. Прилагаю сканы для ознакомления.
Книга карманного издания, в супер-обложке. При первом заказе мне пришла без супера и в таком виде, словно ей, по меньшей мере, лет двадцать. Но, наконец, все нормально и она у меня есть, хотя…
Как говориться, нечего нос воротить, если выбирать не из чего – на русский язык памятники валлийской поэзии Темных веков переведены и издаются впервые. Однако, перевод местами вызывает вопросы. Вот, например, знакомый всем, кто ориентируется в мире короля Артура, король Уриен, патрон барда Талиесина –...
Отдельно хочется отметить, что язык В. Эрлихмана – это что-то!
Читайте и наслаждайтесь!
В серии ЖЗЛ не так давно вышла книга этого замечательного автора о Артуре. Да-а, пожалуй, только с легендарным королем бриттов могло случиться такое: его биографию печатают в серии про реально существовавших людей! Не иначе, Мерлин подколдовал!
Если кому-то, как и мне, ЖЗЛовской в бумажном варианте не досталось, берите эту. В основном, они друг друга повторяют. Только если в той Эрлихман пытается...
Мой любимый маршал – Рокоссовский.
Не только потому, что на его фронте воевал мой дед.
Не только потому, что это один из великих военачальников Второй мировой войны.
А главным образом, из-за своей порядочности и гуманизма. Это был один из немногих примеров человека чести, личной смелости и сильной воли.
То, что я о нем знаю, позволяет мне думать, что все, что он делал, как поступал, вытекало из его нравственных принципов и понятий о человеческом достоинстве. И его мемуары для меня, скорее,...
Мария Федоровна прожила трагическую, полную потерь жизнь. Но в любых обстоятельствах она достойно несла звание русской царицы. Можно даже сказать, что она – последняя настоящая русская Императрица, тогда как Александр III – последний русский Царь. Отрадно, что ныне к этому периоду отечественной истории возвращается интерес. Книга Юлии Кудриной в полной мере подтверждает это. Она уже выпускала биографию датской принцессы в серии ЖЗЛ.
Основные вехи – свадьба, царствование, катастрофа в Борках,...
История успеха Запада глазами самого Запада. Причем, скорее протестантского Запада (или, как его еще называют, англосаксонского).
Приняв за факт, что для этой цивилизации основополагающими являются шесть вещей: Конкуренция, Наука, Собственность, Медицина, Потребление и Труд -- автор рассматривает их развитие на Западе в сравнении с остальным миром. И рассказывает, как Запад последовательно пускал их в ход, добиваясь доминирования.
В течение пятисот лет эти вещи помогали западному миру быть...
Так получилось, что книга читалась почти одновременно с показом по TV познеровской «Германской головоломки». Честно говоря, лично мне показалось, что книга дает больше шансов понять немцев. Сумленный, долго живущий в Германии, но оставшийся русским, подходит к теме как бы снаружи-изнутри и задается вопросами, в которых не всегда признаются себе сами немцы, затрагивая аспекты германской психологии, бюрократического аппарата, культуры – порой противоречивые, и даже кажущиеся на первый взгляд...
Едва ли не единственная на русском языке полная история знаменитой английской междоусобицы. Начиная с предыстоков (аж с норманнского завоевания) и заканчивая последними раскатами бури (восстание Симнела в 1487г.). Хорошая обзорная работа и для общего знакомства очень даже подойдет: чтение захватывающее, слог легкий. Недаром книга переиздается. В целом, мне все понравилось.
Но я хочу предупредить и о минусах, ибо, при всех плюсах работы тем, кто знаком с темой, книга много нового не даст....
«22 августа 1485 года Ричард III, законный коронованный король Англии, был убит на поле Босуорта, защищая свою страну и свою корону.» Событие рядовое в бурных перипетиях европейского средневековья, но почему-то именно оно все чаще заставляет вспоминать о истине, суде истории и даже вечных ценностях. И непрерывно приковывает к себе внимание исследователей, да и нас грешных.
Все-таки удивительно, как много в нашей стране тех, кого в Англии называют ричардианцами (и наоборот, их противников)....
Миссис Бонд, не могу удержаться!
Хочу присоединиться ко всем Вашим словам. Да, у меня есть пара крепких в адрес Лабиринта, но опять-таки, все с недостатками. А так … Мое знакомство с магазином началось примерно тогда же, что у Вас, и за это время не могу остановиться, все покупаю и покупаю книги, потому что книги для меня это все – или почти все. Было несколько настоящих сокровищ, которые уже стали самыми любимыми – все потому, что в Лабиринте ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ система рецензирования. Да, по...
Мне кажется, столько протестующих потому, что Лабиринт уже дважды сдавал позиции. В первый раз (вопрос о Пэке) это было совершенно необходимо; с Достоевским, так же как со стервятниками вопрос спорный.
А Лабиринту СПАСИБО за конкурс и за страсти на сайте почище, чем в британском парламенте. Все-таки, люди остаются прежними: подавай им хлеба и зрелищ. По-моему, эта викторина прочно держит первое место по числу постов, претензий и накладок. Ждем новых конкурсов и вовсе не обязательно с призами...
Присоединяюсь к Морозовой Вере. Для меня викторина это не только бонусы, а прежде всего этакая изюминка, которую для себя находишь заодно с поиском ответов: новые произведения, новая информация, которые не потрудился бы найти иначе. Если открываешь что-то для себя (пусть даже заново), значит, участие в конкурсе было не напрасным. А вот с этим у Лабиринта все в порядке.
Совсем я нынче сломаю голову с Лабиринтом…
«Белые ночи» не так просты как кажется. На уроках литературы в школе говорят, что в произведении было четыре ночи. (Откладывается в голове.)А вообще, анализ повести указывает на обманчивость понятия времени в «Белых ночах»; герой, Мечтатель, не очень соотносит происходящие с ним события с временной шкалой, то есть, ночей было пять. Но, во временном континууме Мечтателя прошло только… четыре.
Вот, может, как-то так…
Соглашусь, пожалуй, с Wacholder,...
Не знаете, что почитать?