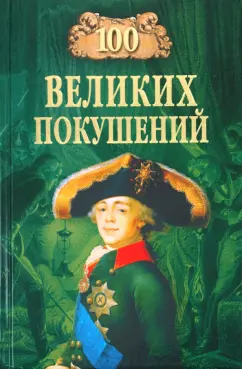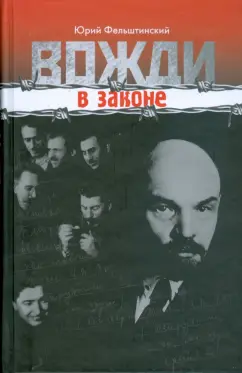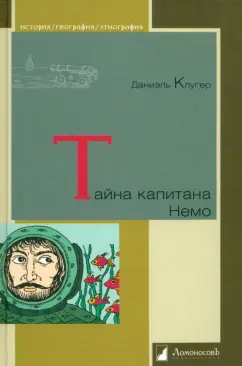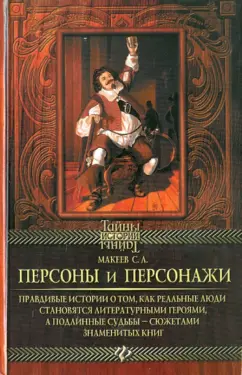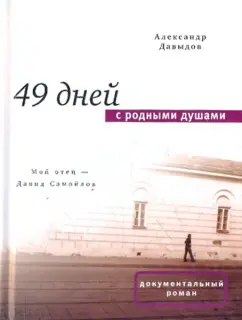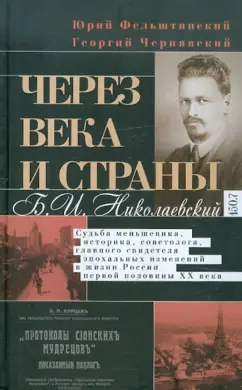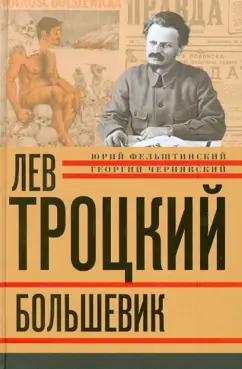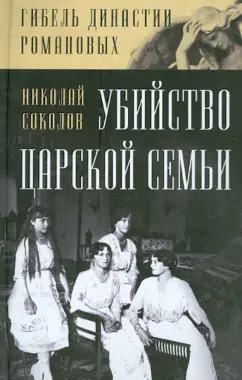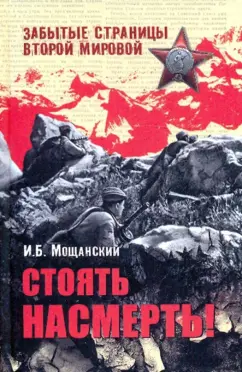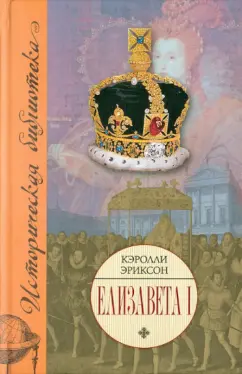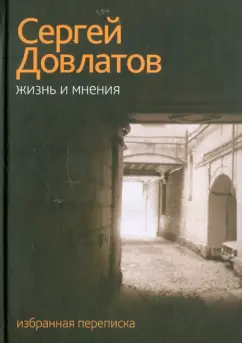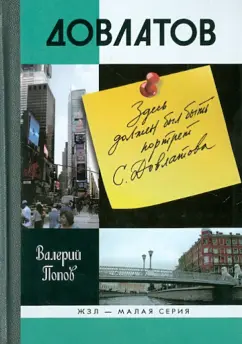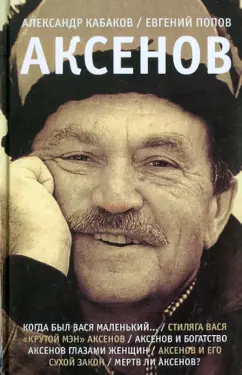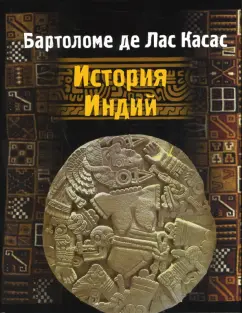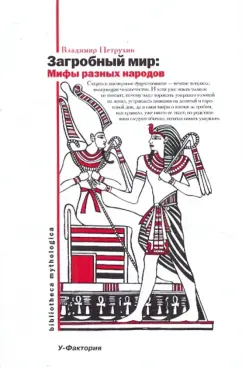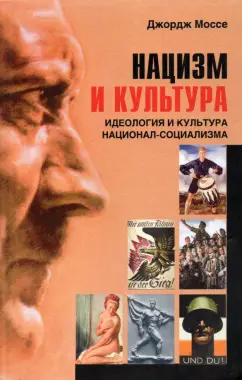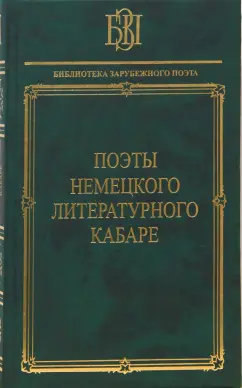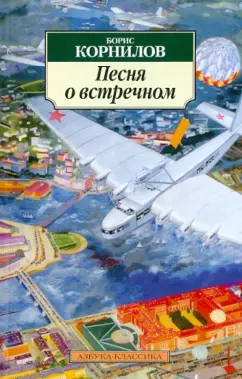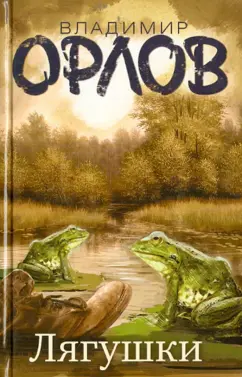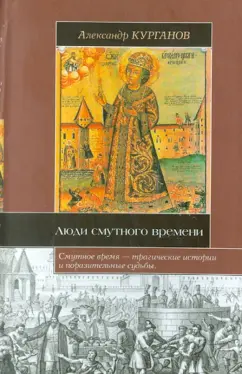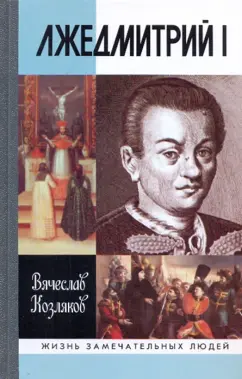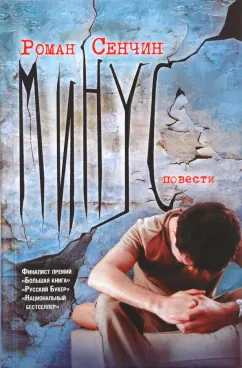| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |
| Книжный вор | +120 |
| Грибоедов | +37 |
| Терракотовая старуха | +30 |
| Отечественная судебная медицина с древности до наших дней | +26 |
| Древняя история смерти | +24 |
А можно ли эту книгу действительно назвать фантастическим романом? Вся фантастика, по большому счету, заключается в допущении возможности темпоральных перемещений в одностороннем порядке – из настоящего в прошлое и обратно, разумеется, исключительно в научных целях. Других явственных свидетельств того, что на дворе 2054 год, у Конни Уиллис нет. Взять хотя бы то обстоятельство, что наиболее «продвинутыми» средствами связи оказываются пейджер, о существовании которого многие из нас уже сегодня...
В целом книга построена по тому же плану, что, например, и биография Завоевателя, написанная Полем Зюмтором и выпущенная «Молодой гвардией» в серии «Жизнь замечательных людей»: вначале приводится общая социально-экономическая характеристика Европы первой половины XI века, после чего в трех разделах последовательно разбираются этапы жизни наиболее известного представителя Нормандской династии, проделавшего путь от бесправного бастарда до всесильного монарха. Однако на этом сходство двух этих...
Задумка всей серии «Атлантида» (Атлантида как символ чего-то огромного, великого, но потом разом ушедшего под воду в абсолютное небытие) хотя и не самая оригинальная, но интересная – репринт популярных советских изданий 40-60-х годов приключенческого и фантастического жанра, чьи авторы к настоящему времени в большинстве своем практически полностью позабыты. Кто-то, возможно, и припомнит, что Лев Овалов породил майора Пронина, а Лазарь Лагин - Старика Хоттабыча, но за творчество Виктора...
Книга, первое издание которой приходится на 1976 год, является логическим продолжением, точнее сказать, вариацией на тему другой книги Кристофера Брука «От Альфреда до Генриха III. 871-1272 годы», появившейся на свет в шестидесятых годах прошлого века. Несмотря на некоторое несовпадение исследуемых временных периодов, две эти работы принципиально мало чем отличаются друг от друга, как по содержанию, так и по характеру изложения. Разве что на русский язык переведена лишь одна из них. Кроме того,...
С одной стороны, книга, написанная двумя спартаковскими болельщиками, вряд ли заинтересует кого-то помимо поклонников красно-белого футбольного клуба. Причем не ту молодую поросль, что скачет по трибунам стадионов, охрипшими голосами выкрикивает похабные лозунги и гордо именует свои хулиганские выходки «акциями». Таких, живущих исключительно днем сегодняшним, подлинная история «Спартака», к адептам которого они сами себя причисляют, не особо интересует. Другое дело – люди старшего поколения,...
Библиография Николая Непомнящего насчитывает десятки, если уже не сотни, книг. Столь примечательная плодовитость автора объясняется достаточно просто: излюбленная, кропотливо разрабатываемая им тема разнообразных тайн, феноменов и загадок, подстерегающих нас буквально на каждом шагу, практически неисчерпаема. Остальное дело техники и искусства компиляции (разумеется, на глубину и фундаментальность такие работы не претендуют), из чего можно сделать вывод, что хорошо известная серия «100 великих»...
Да уж, по сравнению, скажем, с «бесноватым фюрером», на которого, по подсчетам Вилла Бертольда, якобы было совершено 42 покушения (см. его книгу «42 покушения на Адольфа Гитлера»), цифра «три» в отношении Ульянова-Ленина смотрится не очень внушительно. Да и о трех, как выясняется, можно говорить лишь с большими оговорками. Право же, история про ограбление вождя мирового пролетариата бандой Яшки Кошелькова хоть и имела место, но сознательным покушением на жизнь никак не являлась. А благодаря...
Воспоминания Алексея Мишагина-Скрыдлова (полное название: «Les souvenirs du prince Michaguine-Skrydloff: Russie blanche et Russie rouge») впервые были изданы на французском языке в 1935 году в Париже, куда сын знаменитого русского адмирала эмигрировал в 1927 году из Советского Союза. Причем в оригинальном издании было указано, что соавтором князя Мишагина, точнее автором литературной записи, является ни много ни мало известный французский романист, драматург и актер Филипп Эриа, лауреат двух...
У книги два серьезных недостатка, которые заметно снижают значение проделанной автором работы. Первый – огромное количество опечаток, порой искажающих смысл текста до полного абсурда. Так, Ленин, оказывается, родился 10 (22) апреля 1970 года, торжественную встречу пятой годовщины Октября в Харькове Фрунзе организовывал в последние месяцы 1923 года, а «ликвидация гражданской войны», по его же словам, произошла никак не позднее 1916 года. Более того, убийцей германского посла графа Мирбаха...
Редкий случай – аннотация не врёт. Сергей Макеев действительно является постоянным автором ежемесячника «Совершенно секретно», и именно там какое-то время назад некоторые из помещенных в эту книгу историй впервые и были опубликованы. Кое-кем, наверное, даже прочитаны. Так что материал перед нами не слишком новый. Скажем, о злосчастной судьбе Жиля де Ре кто только не писал, начиная с покойного Еремея Парнова, равно как не единожды изумлялись тому, что в голову историку Костомарову и писателю...
По большому счету, книга представляет собой сценарий или, что более вероятно, текстовку небезызвестного документального сериала «Кремль-9», автором, ведущим и одновременно продюсером которого выступает Алексей Пиманов. Правда, следует сделать важную оговорку, что не всего сериала, а только части эпизодов. Так, например, в книжной версии нет отдельных глав (всего их, к слову, десять, тогда как эпизодов сериала было выпущено в два раза больше), посвященных ленинградской блокаде, сыновьям Сталина...
Чем известен кино- или скорее телережиссер Евгений Татарский? По сути, ни одна его полнометражная картина высокими художественными качествами не обладала, начиная с прославляющих бойцов невидимого фронта детективов типа «Золотой мины» и «Колье Шарлотты», глуповатых на грани пошлости комедий, претендующих на статус социальной сатиры, и заканчивая откровенным кичем девяностых годов. И никакие хвалебные рецензии в центральной советской прессе, на которые автор ссылается в своей книге, равно как и...
Кому и зачем в аннотации нужно было акцентироваться на двух именно «святочных рассказах», словно все остальные произведения (на самом деле в сборник включены 11 рассказов и две небольшие пьесы) внимания не заслуживают? Быть может, их просто не рекомендуется читать «на посиделках»? Ведь Сергея Носова как автора всегда отличала тонкая с оттенком теплоты ирония, недоступная для понимания любителям телевизионных юмористов. Ирония по отношению к своим персонажам, к читателю, даже к самому себе....
Если круг ваших литературных интересов находится где-то между эпиграммами Валентина Гафта и творчеством неистощимого Игоря Губермана, то книга «В кругу себя», вероятно, вам тоже придется по вкусу. А может быть, и не придется, поскольку чувство юмора индивидуально - suum cuique. То, что у Давида Самойлова с юмором всё в полном порядке, было известно и ранее, достаточно вспомнить поэму «Струфиан» (если кто не читал, с неё и начните), которая по смысловому наполнению, равно как и уровню...
Хороший сборник, который будет интересен и полезен как юным читателям, едва знакомым с отечественной историей в рамках курса школьной программы, так и тем, чье мировоззрение было сформировано безальтернативной советской парадигмой. Четко, аргументировано и без лишней патетики, а тем более истерии, столь характерных для многих нынешних «историков», автор излагает фактическую сторону узловых моментов истории установления большевистской власти в России: подготовка Октябрьского переворота,...
Способность запорожца Юрия Михайловича Сушко писать обо всем на свете, от письма турецкому султану до биографий знаменитых в неожиданном ракурсе (примерно такое название носит серия книг издательства «Эксмо») не может не впечатлять. Все бы ничего, если г-н Сушко продолжал писать о Владимире Высоцком, различным аспектам жизни которого он посвятил с полдюжины книг, среди которых есть и «Друзья Высоцкого», и «Подруги Высоцкого», и «Женщины в жизни Владимира Высоцкого» (тонкий нюанс: подруги и...
Впечатление от книги неоднозначное. Сразу стоит сказать, что начинать с нее знакомство с темой последних дней царского семейства Романовых, на мой взгляд, не стоит. Хотя бы потому, что автор, эксперт-криминалист Юрий Александрович Жук (подозреваю, что он близкий родственник хорошо известного историка оружия и художника Александра Борисовича Жука) не только не ставит перед собой целью нарисовать свою собственную версию гибели последнего русского царя и его близких, но и чужие концепции...
Для начала стоит сказать несколько слов об авторе. Дмитрий Борисович Павлов, ныне заведующий кафедрой истории России и права МИРЭА, а заодно преподающий историю стран Азии и Африки в Православном Свято-Тихоновском государственном университете, свой путь в науке начал в конце восьмидесятых годов, защитив в 1989 году кандидатскую диссертацию по теме «Эсеры-максималисты в первой российской революции». Поскольку мне довелось с ней ознакомиться, могу с уверенностью сказать, что в то время японские...
Ни для кого не секрет, что с великодержавным шовинизмом у Фонда исторической перспективы, послушно претворяющего в жизнь партитуру своего руководителя Наталии Нарочницкой, дело обстоит в полном порядке. Краткое предисловие к книге Михаила Мельтюхова, посвященной территориальному конфликту между Советским Союзом и Румынией, служит наглядным тому подтверждением. Вот две характерные выдержки, при этом особо следует обратить внимание на безапелляционность и тон высказываний.
1). «Будучи нищим...
Данная книга, по сути, является переизданием работы 1977 года «Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток», принадлежащей перу того же автора, хотя и с небольшими изменениями. В частности, издательство «Вече» поменяло название, посчитав, очевидно, упоминание о Ближнем Востоке несущественным, в отличие от Кавказа. На самом же деле, анализу внешне- и внутриполитической ситуации в сопредельных советскому Закавказью странах (в первую очередь Иран, Ирак и Турция), причем как во время, так и накануне...
Не знаю, как на других книгах Бориса Тененбаума, посвященных Наполеону, Макиавелли и Борджиа, но на обложке этой смело можно ставить штамп «для блондинок». Прочие читатели вряд ли вынесут для себя что-то полезное и новое. В основном автор повторяет широко известные факты биографий английских монархов (да и не только их, поскольку за пределами туманного Альбиона тоже происходит много интересного, и посему каждое лыко будет в строку), не особо разбираясь, где правда, где красивая легенда, а где...
В книге можно выделить три раздела, каждый из которых интересен по своему. Предваряет основное повествование биографический очерк, написанный сыном актера Юлием Файтом, кинорежиссером, некогда снявшим фильм «Пограничный пес Алый» (были, конечно, и другие, но этот, как мне кажется, наиболее известен). Несмотря на то, что, по заверениям самого Юлия Андреевича, с отцом они никогда не были особенно близки, его рассказ пропитан глубоким уважением к родителю и что самое главное, дает достаточно...
Очередная книга-компиляция, не требующая от автора-составителя ни напряженной умственной работы, ни наличия элементарных творческих способностей, что убедительно доказывают прежние работы г-жи Тендоры, посвященные Вячеславу Тихонову, Георгию Юматову и Изольде Извицкой. Достаточно иметь интернет под рукой и ВГИК за плечами, ввернуть в текст многозначительную фразу «когда я брала интервью у Марьиванны, она призналась мне…», чтобы разбавить многостраничные фрагменты, заимствованные из воспоминаний...
Спору нет, книга и в самом деле получилась достаточно яркая и красочная, причем подбор фотографий-образцов выполнен, очевидно, с таким расчетом, чтобы не только дать понять читателю, к чему следует стремиться в своей работе, но и наглядно продемонстрировать тщетность его усилий. Думается, не один начинающий фотограф, избравший данную книгу в качестве практического руководства к действию, будет в глубокой задумчивости чесать в затылке, размышляя над тем, почему даже самое тщательное соблюдение...
Книга «Формулы страха» Дмитрия Комма на порядок превосходит во многом схожую «Книгу ужаса» Дэвида Скала (в оригинале «The Monster Show: A Cultural History of Horror»), как по глубине погружения в тему, так и по стилю изложения. В то время, как Скал рассматривает развитие «хоррора» с позиций американской культуры, причем временами взгляд этот выглядит откровенно дилетантским, Комм как истинный киновед-профессионал куда больше заинтересован в анализе теоретического аспекта жанра. Причем главный...
Уж чего-чего, а нового из этой книги можно узнать немало, причем вне всякой зависимости от того, сколько раз вы перечитали в детстве Цвейга. Начать хотя бы с того, что автор и издатели готовы в корне поменять устоявшиеся представления на роман как жанр художественной литературы. Следуя их логике, к этой же категории следует отнести и небезызвестный в широких кругах журнал «Караван историй», эпатажные очерки из которого стилистически весьма напоминают творение г-на Грибанова, особенно в...
Сразу о главном для тех, кто сомневается, уж не пропустил ли он ненароком разгадку едва ли не главной тайны мировой литературы. У Литвиновой нет ни одного прямого доказательства ее версии, как, впрочем, их нет ни у одного из ее конкурентов, что ортодоксальной, что нестратфордианской ориентации. В лучшем случае идея о творческом дуумвирате Бэкон-Ратленд не противоречит основным историческим реалиям, поэтому имеет право на существование, но не подтверждается фактами, не высосанными из пальца и не...
Определить вектор творчества Евгения Попова и главную его составляющую, в принципе, не так уж и сложно: жизнь «маленьких» (причем чем меньше, тем лучше) советских людей в нечеловеческих условиях их необъятной по размерам родины. Не людей даже, а человечков, не слишком, правда, веселых, хотя самому автору в иронии как к собственным персонажам, так и окружающей их соцреалистической действительности не откажешь. На философскую интеллектуальность Попов, кажется, никогда не претендовал, посему его...
Данная книга яркий пример того, что по нынешним временам книгу «написать» легче, чем то же самое сделать на собственные два пальца. Не нужно ничего выдумывать и уж тем более годами «работать над материалами», ибо все новое – это хорошо забытое старое. Для начала, например, следует распотрошить сборник мемуаров «Малоизвестный Довлатов», последний раз переиздававшийся, если мне не изменяет память, в 1999 году. А это, к слову, не меньше трети всего объема настоящей «биографии». Хотя, простите,...
Жестоко ошибается тот, кто ждет от этой книги стандартного набора актерских баек о сенсационных подробностях и закулисных интригах съемок одноименного отечественного сериала. Да и какой, честно говоря, смысл в очередной раз пережевывать историю о том, как подверглась цензуре внезапно приобретшая глубокий политический смысл фраза «Давно из Афганистана?» или почему Светлана Крючкова снялась в двух различных, но второстепенных ролях? Тема эта неоднократно поднималась на телевидении и...
Откровенно говоря, отдельного тома этот сборник эссе, некоторым из которых сто лет в обед, не заслуживает. Ладно бы еще избранные статьи были размещены в качестве дополнения к изданным в той же серии (или речь идет о малом собрании сочинений?) романам «Репетиции» и «До и во время». Так, например, работа, номинально посвященная Андрею Платонову (важно подчеркнуть, что не столько творчеству его, сколько его личности), дает одновременно ключ к пониманию исторической концепции «Третьего Рима» и...
Очень слабая книга. Незамысловатый сюжет в духе перенесенного на отечественную почву авантюрного романа, чудовищные по своей нелепости исторические ляпсусы, крайне субъективный и тенденциозный подход к отображению реалий прошлого, стремление к грубому натурализму (впрочем, для 1928 года, когда «Розмысл» увидел свет, это вообще довольно характерно, вспомним, для примера, хотя бы «Тихий Дон») и, наконец, исключительное пристрастие к анахронизмам,которыми текст нашпигован, будто «Любительская»...
Легче всего увидеть в этой книге попытку рассерженной женщины взяться за перо и спустя десятилетия с лихвой рассчитаться за былые обиды, а заодно урвать кусочек недополученной славы. Но тогда Асе Марковне суждено было бы остаться в памяти народной еще одной Мариной Басмановой, а не «коротко стриженой миловидной крепостью, расположенной где-то на Песках». В действительности же г-жа Пекуровская фигура самодостаточная во всех отношениях, отнюдь не дура, как это представляется некоторым...
До конца жизни Еремей Иудович, похоже, так и не определился, к какому жанру литературы у него более всего лежит душа. В его писательском арсенале есть и детективы – кто же не помнит сагу про инспектора Люсина, начинавшуюся романом «Ларец Марии Медичи»! – и фантастические новеллы с явным уклоном в мистицизм, и популярные исторические расследования, с непринужденной легкостью связывающие эпохи и страны, и пронизанные вековой восточной мудростью притчи, и даже, как оказалось, пусть и не слишком...
«Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник», а биографию писателя будет сочинять восторженный клеврет, стремящийся доказать собственную правоту путем подробного пересказа содержания произведений своего кумира. По счастью (или наоборот), не всех, но значительной части. Да, напичканная автобиографичными (нередко с приставкой псевдо-) коллизиями проза Василия Аксенова к этому, конечно, располагает, но про чувство меры Дмитрию Петрову забывать было не след. В итоге же, написанная им биография больше...
Начнем с того, что данная книга не только, как сказано в аннотации, «открывает обширный исторический раздел серии "Библиотека Латинской Америки", посвященный 500-летию открытия европейцами американского континента», но и благополучно закрывает его. Дальше дело пошло туго и все последующие тома серии (их, впрочем, не так уж и много) являются чистой воды беллетристикой. В итоге громадье планов издательства обернулось пшиком. И даже суперобложку (а она, между прочим, была!) «академисты»...
Кем в действительности был князь Андрей Курбский (примечательно, что польские источники упорно называют князя Крупским, ясное дело, «кто ж не знает старика Крупского») никто уже никогда не узнает. Как справедливо указывает автор в своем предисловии, до наших не сохранилось ни единой личной вещи «первого русского диссидента», нам не известны ни точные даты его рождения и смерти, ни само место его упокоения, ни, собственно, большинство обстоятельств его жизни. Чего уж там, даже знаменитые...
Ни аннотация, ни сама книга, вероятно, из чувства всепоглощающей скромности, не упоминают, что автором «Древней истории смерти» является… действующий главный редактор издательства «Ломоносовъ» Владислав Петров. Сильно сомневаюсь, что если бы к Владиславу Валентиновичу пришел с этой рукописью никому не известный писатель паче историк Владик Петров, будь он хоть десять раз почитателем Виктора Конецкого, к которому неровно дышит сам товарищ главный редактор, то его встретили бы с распростертыми...
Начнем с содержания: предельно сжатый очерк о группе в целом и небольшие зарисовки о жизненном и творческом пути ее ведущих представителей (Дени, Рансон, Боннар, Вюйар, Руссель, Валлотон, остальные – за кадром). Интересно (спасибо г-же Крючковой), но мало, хотя от 48-страничного издания многого ожидать, конечно же, не приходится. Безусловно, в плане информативности книга сильно проигрывает изданному еще в 1996 году (и в 2003 году переизданному) иллюстрированному альбому Альберта Костеневича...
Книга гораздо более солидная в своем изложении, чем можно было бы подумать, глядя на ее заглавие. Это отнюдь не поверхностный взгляд дилетанта, жадно накинувшегося на свежую сенсацию, а сереьзный обстоятельный рассказ об истории противостояния эстрадного жанра и национал-социалистического официоза (а не просто о немецкой эстраде 30-40-х годов как таковой, тем паче не об одной «Лили Марлен»). Рассказ, подкрепленный многочисленными цитатами и небезынтересными аналитическими выводами, сделанными...
Всего в книге собрано 57 рецептов, преимущественно не самых простых, но в то же время и не отдающих затхлым привкусом кулинарного диссидентства блюд, в т.ч.:
- 19 блюд из различных видов мяса, начиная от кролика и заканчивая представителями пернатой фауны;
- 20 блюд из рыбы и морепродуктов, к коим причислен фаршированный кальмар;
- 18 блюд из овощей на потеху вегетарианцам и приверженцам религиозно-культовых диет.
При достаточно удобоваримой цене книги (особенно в сравнении с изданиями...
Книга не большая по объему, но не совсем обычная в своем подходе к заглавной теме. Собственно личности Изабеллы Кастильской посвящено не так уж много страниц, а с учетом крайне противоречивых описаний различных хронистов, приводимых Жозефом Пересом, составить мнение о ней будет довольно проблематично. Единственный выход – судить о королеве по ее деяниям (Изабелла и евреи, Изабелла и индейцы, Изабелла и инквизиция), но в этом-то и заключается главная загвоздка: в то время как одни готовы...
Замечательная и во всех смыслах полезная идея объединять книги разных авторов в комплекты по тематическому принципу, особенно если это сделано грамотно, и одни составляющие такого комплекта не выглядят малоинтересным довеском к другим. Главный плюс такой покупки, на мой взгляд, заключается в возможности комплексного подхода к изучению интересующей проблемы (да даже при беглом ознакомлении с оной). Данный комплект отлично иллюстрирует эту мысль. Несомненно, что личность Ивана IV целесообразно и...
На мой взгляд, больше чем на приложение к чьей-то работе (не имеет значения, Васильченко это будет или кто-то другой) мемуары Эрнста Херрмана не тянут. Практически никакой научной ценности они не несут, а уж о литературной составляющей говорить и вовсе не приходится – путевые записки геолога-дилетанта, временами отдающие пошлятиной (чего стоит один «диалог пингвинов» на десяти страницах). Печатать такие воспоминания отдельным изданием могли себе позволить только в Третьем Рейхе да и то делали...
Сказал «а», говори и «б». Вполне, думается, логично, что вслед за книгой, посвященной Ольге Берггольц (речь о «Запретном дневнике»), последовало продолжение, главным героем которого стал первый супруг «Блокадной музы» поэт Борис Корнилов. То же издательство, те же составители, то же оформление, та же в целом структура, те же огрехи. Но результат несколько иной.
Начнем с того, что подборка стихов практически полностью повторяет содержание книги «Песня о встречном», выпущенной все той же...
«Когда мы были молодые…», «когда деревья были большие…», когда девочки краснели при слове «попа»…, короче, до всемирного потопа (лет эдак сорок-пятьдесят назад) всё это действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. Именно грустно, поелику многие пародии слишком уж похожи на оригиналы (порой это даже напоминает игру «Найди три отличия»), так что и обижаться есть на что. Однако над убогими, как известно, смеяться грешно, тогда как на обиженных воду возят. Вот и получается:...
В последнем (впрочем, последнем ли?) изданном романе Владимира Орлова «Лягушки» читаем: «Конечно, была вложена в коробку и не раз читанная книга С.Ф. Платонова "Очерки по истории Смуты в Московском государстве", на взгляд Ковригина, лучшего толкователя столь печального периода русской истории». И верно лучший, точнее один из лучших, потому как разом списывать со счетов Соловьева, Костомарова, Скрынникова лично у меня бы рука не поднялась. Причем речь идет именно о «толковании», ибо,...
Писательское кредо г-на Шлакенберга можно сформулировать следующим образом: «Если вы еще не достирали свое грязное белье, тогда мы идем к вам, чтобы помочь вывесить его на всеобщее обозрение». При этом отсутствие грязного белья проблемой не является, ибо все зависит от того, под каким углом на предмет посмотреть – ночью и кристально белоснежный саван покажется пыльным мешком, которым так приятно огреть какого-нибудь ненавистного еще со школьных времен литературного классика и под бодрое...
«…я врач – не этот самый, не поэт. Я кое-что могу в своей профессии… Нос, уши, скулы, подбородок, рот». Наверное, большинству читателей можно было бы доказать справедливость данного утверждения подчеркнуто монотонным описанием хода хирургической операции, старательно списанным из какого-нибудь медицинского журнала. Но если далее (или ранее) по тексту следуют «трепетные споры вездесущего педерастического вируса» и «допаминовые рецепторы», то, выражаясь словами самого автора, имеет место быть...
Много чего в этой книге не так: немного странный подбор «величайших чудес» исключительно рукотворного происхождения, «не дружественные» по отношению к читателю дизайнерские решения, опечатки, в результате которых пропадают целые слова, многочисленные фактические ошибки безвестного (и это уже настораживает) переводчика и автора, кои поленились лишний раз заглянуть в учебник истории. Судя по библиографии, досточтимой фрау Анке абсолютно все равно о чем писать – о семи чудесах света, о динозаврах,...
Всякому овощу (или яблоку, смотря за кого вы вчера голосовали) свое время. И не только ему. Наверняка выпускники «факультета ненужных вещей» (сиречь правозащитники, как профессиональные, так и «по призванию») со мной не согласятся, однако, на мой взгляд, время Домбровского ушло. Причем еще в прошлом веке, потому как любая попытка ответить на извечные вопросы (в данном случае речь о том, что есть истина и для чего она нужна?) с позиций дня прошедшего обречена на недолговечность, ибо времена...
Первое, о чем подумалось: что-то Сенчин начал часто повторяться. Взять, например, Максима (центральный персонаж заглавного рассказа сборника). Не так уж сложно узнать в нем непутевого бывшего однокурсника по Литинституту Василия из повести «Вперед и вверх на севших батарейках», коренного москвича с Пресни, живущего вдвоем с матерью в предназначенном под снос аварийном доме. Прототип (сравним годы написания: 2004 и 1998-2000) главного героя «Репетиций» еще более очевиден – Роман Сенчин (не...
Автобиографическая проза (в том числе и с приставкой псевдо-) – жанр весьма популярный в отечественной художественной литературе последних нескольких десятилетий, достаточно вспомнить Нагибина, Аксёнова, Довлатова… Лимонова, наконец. Все дело лишь в соотношении документальности и художественного вымысла, необходимого для того, чтобы облагородить главного героя по имени «Я. Любимый», рельефно запечатлев его сугубо положительные качества на тусклом фоне в целом безликой массовки, особо...
Сильно сомневаюсь, что человек, которому имя Башлачёва ровным счетом ничего не говорит, после прочтения этой книги захочет поскорее припасть к живительному роднику его, увы, небогатого творческого наследия. Наоборот, было сделано практически все возможное, чтобы дискредитировать Башлачёва как поэта, записав его в «современники» (сиречь «собеседники») к поседевшим, обрюзгшим и заплывшим жиром рок-кумирам ушедшего века. Последние, соответственно, не преминули позиционировать себя «друзьями»,...
Приторно-сопливая сказка-ложь (вариация на тему «Гарри Поттер и холокост»), какой бы фальшью от нее за версту не веяло, и в Австралии, и в Бразилии, и в России легко найдет благодарного читателя среди падких на подобную «клюкву» подростков и их сентиментальных мамаш, следующих жизненной формуле «есть/молиться/рожать». Они не обратят внимания, что персонаж, именующий себя Смертью, больше всего похож на дешевого клоуна, нарядившегося в маскарадный костюм супергероя и с пафосом возвещающего, что...
Избранная для написания форма «народной истории» (people’s history) с привлечением свидетельств непосредственных участников событий, пожалуй, главная, если не единственна удача этой книги (в остальном работа вторична и скупа на факты, лишена глубокого анализа, зато чересчур изобилует пафосной антифашистской риторикой). Именно в этих кратких, зачастую незамысловатых, но предельно искренних откровениях бывших членов «Гитлерюгенд» и можно напрямую ощутить главную трагедию любого «потерянного...
Для тех, кто с творчеством г-на Кожинова не знаком, но по каким-то причинам вдруг заинтересовался его «правдой о сталинских репрессиях», я настоятельно рекомендую, прежде чем брать книгу в руки, ознакомиться с приведенным ниже фрагментом, который даст хотя бы общее представление о том, что вас ждет. Подчеркиваю: это не цитата из текста Кожинова, но по стилю и смыслу очень близко к оригиналу.
«Лживые утверждения таких воинствующих сионистских историков как Иванов (Розенкранц) и Петров...
В одной из своих книг Бенедикт Сарнов приводит рассказ Эренбурга о том, как он в 1932 году в один из своих приездов в Москву оказался на даче Горького, на одной из встреч писателей с членами Политбюро (об этом же пишет и сам Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь»). Поскольку Илья Григорьевич был там человек новый, каждый из вождей (Калинин, Молотов и др.), знакомясь с ним, считал своим долгом сказать писателю что-то приятное. И вышло так, что все, не сговариваясь, повторяли, чуть ли не...
Выход «Десятки» ознаменовался довольно странным заявлением полпредов издательства «Ad Marginem», в котором они только что не рвали волосы на затылках друг у друга, глубоко раскаиваясь в содеянном и сетуя на свою возрастающую оторванность от мейнстрима. «Есть ощущение, как будто всем выдали какие-то мандаты, сформировалось такое новое Переделкино. Эти люди называют друг друга писателями… У них уже все есть», - жалуется главный редактор Михаил Котомин, в первую очередь подразумевая сколоченную...
Интересные у Николая Рубцова были друзья… Взять хотя бы составителя данного сборника воспоминаний Николая Попова. «Седой член Союза писателей», с хвастливым самолюбованием рассказывает о том, как движимый благородным желанием опубликовать эту рукопись «насиловал свое вдохновение», с лихостью превращая инструкции по эксплуатации фаллоимитаторов в «сплошные бурлески, раешники, способные расшевелить любого импотента или сосульку». Увы, владелец сексшопа оказался «рафинированным пуританином»,...
Не знаете, что почитать?